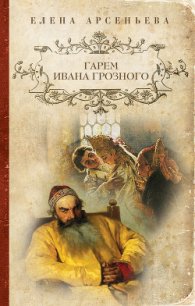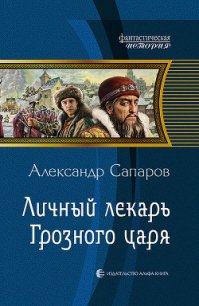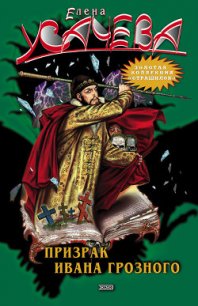Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] - Арсеньева Елена (читать книги без .txt) 📗
– Не было! – яростно отперся Федоров. – Клевета! Враги оговорили!
– Случается, конечно, – почти миролюбиво кивнул Иван Васильевич. – Случается, что оговаривают…
И он опять надолго замолк, сосредоточенно глядя в пол. Да и Федоров молчал, как воды в рот набрав, нутром чуя, что сейчас решается его судьба.
– Ну, хорошо, – сказал наконец государь, – будь по-твоему. Приму тебя к себе на службу, а там уж поглядим, карать тебя или миловать. Каждому воздастся по делам его! Но только сперва дам я тебе испытание. Согласен?
Федоров едва не спросил, какое испытание, потом сообразил: торговаться тут вряд ли уместно, и истово закивал – согласен, мол, что за вопрос?
– Испытание совсем даже простое и, можно сказать, приятное, – заговорил царь, и голос его при этом зазвенел, будто от боли. – Ты, Иван Петрович, баб любишь ли?
Федоров растерянно хлопнул глазами. Какой ответ хочется услышать этому странному и ужасному, аки чудо морское, человеку, которого Бог, неизвестно за какие грехи боярские, поставил над ними царем?!
– Знаю, слыхал, тот еще котяра, тот еще ходок! – хмыкнул Иван Васильевич. – Значит, и с моим испытанием справишься. Но только тут есть одно условие, друг мой милый Иван Петрович. Коли прознает кто-то еще о нашем с тобой разговоре, я тебе не токмо что язык собственноручно выдеру и в глотку запихаю, но и причиндалы твои настрогаю ломтиками и собакам скормлю. – Приподнимаясь с лавки, царь медленно, угрожающе нависал над Федоровым. – А потом сядешь ты у меня на длинный уд задницею, аки иные мужики при содомском грехе делают. Только уд сей будет колом, и уж палачи мои постараются, чтоб ты на нем не менее трех суток грешил с покаянием. А с семьей твоей, с дочкою… Ну да ладно, – оборвал он вдруг себя и снова опустился на лавку. – Вижу, ты все понял.
– По…понял я… понял! – прохрипел чуть живой Федоров.
– Вот и ладненько. А теперь – о деле. Дошло до меня, что князь Михаил Темрюкович держит у себя дома какую-то девку. Та девка не прислуга, а блудня, кою он своим ближним опричникам изредка попользовать дает. – При этом царь мотнул головой в сторону той двери, куда недавно уволокли запытанного, и Федоров, ум которого обострился от опасности, смекнул, что Савка Гаврилов и был одним из таких опричников. – Пойдешь ты к Михаилу Темрюковичу и скажешь ему, что хочешь ту девку иметь. Плети ему семь верст до небес, обещай горы золотые, только уговори, чтоб он тебя к той непотребной девке хотя бы на одну ноченьку сводил. Наври чего-нибудь, дескать, с бабы твоей никакой сласти уже нету, а ты мужик в соку… мы ведь с тобой ровесники, кажись? Значит, тебе и сороковника еще нету, ну, какие наши годы! Опять же сказано: седина в голову – бес в ребро. Вот и вали все на этого неодолимого беса похоти, который искушает тебя денно и нощно. Словом, умри, но уговори Темрюковича отвести тебя к ней. Что уж ты там с ней станешь делать – сам смотри, хошь, мни ее почем зря, а хошь, рядом бревном лежи. Но только непременно пощупай ты у нее под левой грудью, есть ли там родинка затаенная, на вид как бы третий сосочек. Понял?
Федоров тупо кивнул. Ничего он не понимал, ничегошеньки! Однако чадные факелы в углах слишком ярко освещали пол, на котором Савкина кровь уже насквозь пропитала беленький, чистенький песочек, которым ее присыпали, сделав его темно-красным. И Федоров опять кивнул:
– Все сделаю… все, что велишь, батюшка. Только не взыщи, коли служба моя тебе не покажется.
– Это еще почему? – Царь заломил бровь под самую скуфейку. – Ты уж так служи, чтобы показалась, не то…
– Да уж наслышан, – повесил голову Федоров, от сознания полной безнадежности всего сущего даже похрабревший малость. – Помню, чего ты со мной сделать грозил. Может, лучше сразу?… Потому что нечем мне, ну разу нечем прельстить Михайлу Темрюковича! Кто я ему? Друг наилепший, за коего ему и жизни не жаль? Совсем наоборот. Богатством его не соблазнишь, ибо чего не хватает цареву шурину? Властью? Да у него и так вся власть в руках, почитай, второй человек в стране после тебя! Жизнью пред ним заложиться, в кабалу пойти? – Он уныло хмыкнул и повесил голову.
Молчание показалось ему тяжелым, словно зависший в воздухе топор палача.
– Не пойму я тебя, Иван Петрович, – послышался негромкий голос царя. – Вроде бы ты умный, а поглядишь – дурак. Думаешь, ты первый сюда приехал – о чести боярской мне болтать да милостей просить? Думаешь, первый на место главы земщины целишься? Да вам, боярам, скулящим у моего порога, сметы нет! Но только у тебя есть средство, чтобы заставить Темрюковича дать тебе ту девку. Только у тебя, у одного-разъединого!
Федоров вскинул голову, вытаращил глаза. Царь смотрел прямо – нестерпимым, жгучим взором. Федоров скривился, зажмурился, словно ему под веки плеснули кислотой. Да, его догадка и впрямь была остра и едка.
Прав царь, прав… есть у него такое средство. Есть приманка для Темрюковича! И зовется та приманка – Грушенька.
Этот мальчишка появлялся в Кремле не первое лето, к нему уже привыкли. Его босые ноги вечно были в цыпках, нечесаные патлы прикрывали лицо, а от одежонки, где прореха соперничала с прорехою, сильно шибало тиной и гнилью, словно мальчишка был не живой человек, а утопленник, восставший со дна болотины. За его спиной всегда висела ивовая плетенка, откуда тоже несло болотом и влагою, а иногда даже капала вода и разносилось всполошенное кваканье.
Этот низкорослый, словно бы пригнутый к земле, косоглазый мальчишка, знала стража, нарочно ловил по окрестным болотам жаб и носил их к цареву лекарю Бомелию.
Никто лекаря за руку не ловил, конечно, однако последнее время пополз по Москве слушок, будто сей поганый иноземец окончательно схлестнулся с чертом, вовсе запродал ему свою черную душу и подрядился изготовлять такие зелья для упрямых, недоброжелательных к царю бояр, от коих они помирали не вот тебе прямо на глазах, словно обухом ударенные, или когда Бог приберет, а точно по Бомелиеву расчету. Скажем, захочет злокозненный Елисей, чтобы Шуйский или какой-нибудь Тютев откинул копыта поутру в воскресенье, – так тому и быть. И, что самое страшное, никто не знал, кому и когда подсыплет Бомелий своего ядовитого порошка или подольет смертоносного зелья. Не станешь же на царском пиру сидеть, стиснув зубы и губы сжав. Непременно хоть глоточек хлебнешь, ну а потом узнаешь, что в том глоточке была твоя смерть. А яды свои дохтур Елисей как раз и варит из жаб, которые носит к нему косоглазый мальчишка-черемис. Сперва сушит их на веревках, ну как бабы грибы на зиму сушат, а потом – в котел! И морит он тех жаб бессчетно, чтобы травить честное боярство без ошибки и без жалости.
Все эти слухи не могли не долетать до ушей Бомелия, и он немало им смеялся. Если слушать всех болтунов, бояре на Москве уж вовсе перестали помирать своей смертью, всех дохтур Елисей перетравил, словно делать ему больше нечего. Так он и будет расходовать свое самое верное, самое лучшее и безболезненное зелье на кого ни попадя. Небось никаких жаб не хватит!
Нет, что касается жабьего яду, это была чистая правда. Только ни сушить, ни варить их для сего дела не приходилось.
Журавль или аист, который бродит по болоту или заилившейся речушке в поисках жаб, высоко подбрасывает их в воздух и ловит, разинув клюв, так, чтобы они прямиком попадали ему в горло, а оттуда в желудок. Боже упаси стиснуть жабью голову клювом! Упадет птица мертвая, словно подавилась. На самом же деле она не подавилась, а отравилась смертельным жабьим ядом.
Человек не птица, жабу ему в горло не запихнешь. В Англии Бомелий с наслаждением отведывал устриц, а во Франции, ходят слухи, люди и впрямь лягушек жрут, но русского человека эту погань в рот взять не заставишь. Да и ни к чему оно. Смерть, полагал Бомелий, должна быть сладкой на вкус и приятной на вид. Одно дело казнь публичная, и совсем другое – казнь тайная.
Уж конечно, не он сам отвозил царский принос обреченным. Среди этого приноса непременно была фляга с фряжским вином – чудесным, ароматным и сладким. В эту флягу и выдавливал дохтур Елисей отраву, взяв жабу за голову своими сильными пальцами и по каплям выжимая из ее заушин ядовитую белесо-зеленоватую жидкость. Конечно, не всякая жаба для сего годилась, а только одного особенного вида. Одной жабы обычно было мало – ну что же, запас квакающих отравительниц, устроенных на жительство в коробах, обмазанных глиной и устланных сырой травой, был у доктора весьма солидным (на зиму они переселялись в особые чаны с тинистой водою, где и засыпали, как положено у них, и находились под неусыпным наблюдением доктора или его доверенной прислуги). Потом вино взбалтывалось, запечатывалось, отправлялось по назначению – и оставалось только ждать, когда пронесется по Москве весть о внезапной тяжкой болезни того или иного боярина.