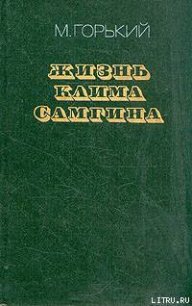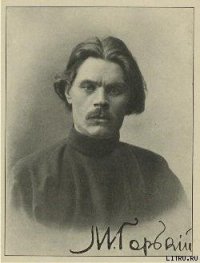Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - Горький Максим (книги онлайн без регистрации txt) 📗
– Домой, это...? Нет, – решительно ответил Дмитрий, впустив глаза и вытирая ладонью мокрые усы, – усы у него загибались в рот, и это очень усиливало добродушное выражение его лица. – Я, знаешь, недолюбливаю Варавку. Тут еще этот его «Наш край», – прескверная газетка! И – чорт его знает! – он как-то садится на все, ьа дома, леса, на людей...
«Нелепо говорить так при чужой женщине», – подумал Клим, а брат говорил:
– Я во Пскове буду жить. Столицы, университетские города, конечно, запрещены мне. Поживу во Пскове до осени – в Полтаву буду проситься. Сюда меня на две недели пустили, обязан ежедневно являться в полицию. Ну, а ты – как живешь? Помнится, тебя марксизм не удовлетворял?
Клим, усмехнувшись, подумал:
«Начинается».
И, вспомнив Томилина, сказал докторально:
– Для того, чтоб хорошо понять, не следует торопиться верить; сила познания – в сомнении.
– И я так думаю, – сказала Айно, кивнув головою. Дмитрий посмотрел на нее, на брата и, должно быть, сжал зубы, лицо его смешно расширилось, волосы бороды на скулах встали дыбом, он махнул рукою за плечо свое и, шумно вздохнув, заговорил, поглаживая щеки:
– Там, знаешь, очень думается обо всем. Людей – мало, природы – много; грозный край. Пустота, требующая наполнения, знаешь. Когда меня переселили в Мезень...
– За что? – осведомился Клим.
– Чорт их знает! Вообразили, что я хотел бежать из Устюга. Ну, через тринадцать месяцев снова перегнали в Устюг. Я не жалуюсь, – интереснейшие места видел!
Он усмехнулся, провел ладонями по лицу, пригладил бороду.
– Так вот, знаешь, – Мезень. Так себе – небольшое село, тысячи две людей. Море – Змей Мидгард, зажавший землю в кольце своем. Что оно Белое – это плохо придумано, оно, знаешь, эдакое оловянное и скверного характера, воет, рычит, особенно – по ночам, а ночи – без конца! И разные шалости, например – северное сияние. Когда я впервые увидал этот мятеж огня, безумнейшее, безгласнейшее волшебство миллионов радуг, – не стыжусь сознаться – струсил я! Некоторое время жил без ума, чувствуя себя пустым, как мыльный пузырь, отражающий эту игру холодного пламени. Миры сгорают, а я – пустой зритель катастрофы.
Дмитрий ослепленно мигнул и стер ладонью морщины с широкого лба, но тотчас же, наклонясь к брату, спросил:
– А может быть, следует, чтоб идеология стесняла? А?
– Зачем? – осведомился Клим.
– Есть в человеке тенденция расплываться, стихийничать.
– Мысль – церковная.
– Н-да, похоже, – согласился Дмитрий, но, подумав несколько секунд, заметил:
– В государственном праве – тоже эта мысль. Попросил Айно налить ему чаю и оживленно начал рассказывать:
– Домохозяин мой, рыбак, помор, как-то сказал мне:
«Вот, Иваныч, внушаешь ты, что людям надо жить получше, полегче, а ведь земля – против этого! И я тоже против; потому что вижу: те люди, которые и лучше живут, – хуже тех, которые живут плохо. Я тебе, Иваныч, прямо скажу: работники мои – лучше меня, однакож я им снасть и шняку не отдам, в работники не пойду, коли бог помилует. А, по совести говорю, знаю я, что работники лучше меня и что нечестно я с ними живу, как все хозяева. Ну, а сделай ты их хозяевами, они тоже моим законом будут жить. Вот какой тут узелок завязан».
Дмитрий начал рассказывать нехотя, тяжеловато, но скоро оживился, заговорил торопливо, растягивая и подчеркивая отдельные слова, разрубая воздух ребром ладони. Клим догадался, что брат пытается воспроизвести характер чужой речи, и нашел, что это не удается ему,
«Бездарен он».
Дмитрий замолчал, и ожидающий, вопросительный взгляд его принудил Клима сказать:
– Выходит так, что как будто идеология не стесняла этого человека.
– Это – плохой человек, – решительно заметила Айно.
– Плохой, думаете? – спросил Дмитрий, рассматривая ее.
– О да, я так думаю. Я не знаю, как сказать, но – очень плохой!
Дмитрий, наморщив лоб, вздохнул и пробормотал:
– Ну, тут надобно знать что-то, чего я не знаю. И продолжал, обращаясь к брату:
– Пробовал я там говорить с людями – не понимают. То есть – понимают, но – не принимают. Пропагандист я – неумелый, не убедителен. Там все индивидуалисты... не пошатнешь! Один сказал: «Что ж мне о людях заботиться, ежели они обо мне и не думают?» А другой говорит: «Может, завтра море смерти моей потребует, а ты мне внушаешь, чтоб я на десять лет вперед жизнь мою рассчитывал». И всё в этом духе...
Он вызывал у Клима впечатление человека смущенного, и Климу приятно было чувствовать это, приятно убедиться еще раз, что простая жизнь оказалась сильнее мудрых книг, поглощенных братом.
Снова заговорила Айно, покуривая папиросу, сидя в свободной позе.
– Это – очень сытые мысли, мысли сильных людей. Я люблю сильные люди, да! Которые не могут жить сами собой, те умирают, как лишний сучок на дерево; которые умеют питаться солнцем – живут и делают всегда хорошо, как надобно делать всё. Надобно очень много работать и накоплять, чтобы у всех было всё. Мы живем, как экспедиция в незнакомый край, где никто не был. Слабые люди очень дорого стоят и мешают. Когда у вас две мысли, – одна лишняя и вредная. У русских – десять мысли и все – не крепки. Птичий двор в головах, – так я думаю.
Она тихонько засмеялась. А потом, не сумев скрыть зевок, сказала:
– Мне спать.
Клим тоже ушел, сославшись на усталость и желая наедине обдумать брата. Но, придя в свою комнату, он быстро разделся, лег и тотчас уснул.
Утром, за кофе, он спросил брата:
– Ты знаешь, что Кутузов арестован?
– Опять? Когда? – очень тревожно воскликнул Дмитрий, но, выслушав объяснение Клима, широко улыбнулся:
– Он – в Нижнем, под надзором. Я же с ним все время переписывался. Замечательный человек Степан, – вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом. И, помолчав, добавил:
– Айно вчера неплохо говорила о сильных.
– В духе страны, – авторитетно заметил Клим.
– Хорошая баба.
– А что ты знаешь о Марине?
– Ничего не знаю, – очень равнодушно откликнулся Дмитрий. – Сначала переписывался с нею, потом оборвалось. Она что-то о боге задумалась одно время, да, знаешь, книжно как-то. Там поморы о боге рассуждают – заслушаешься.
Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды.
– Я, брат, едва не женился там на одной.
– Ссыльная?
– Поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая семья. Три брата, две сестры. Неласково дергая бороду, он вздохнул:
– Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой. Укрепиться. И к женщине тянет весьма сильно. Женщины там чудовищные...
Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала:
– Вас хочет один человек, его – сюда?
– Меня? – удивился Клим, вставая.
– Вас, вас, – дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек.
– Вы – Клим Самгин? – спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая комнату, Самгина, осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил:
– А это кто?
– Дмитрий Самгин, брат мой.
– Ага-а! – удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах бумажный шарик. – Это от Сомовой. Осторожно развертывайте, бумага тонкая.
Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, развертывая бумажку, услыхал тихий его вопрос:
– Давно из ссылки?
Клим прочитал: «Это наш земляк, Платон Долганов, он даст тебе кое-что, привези. Л.».
Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в «деятельность». Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то «из мрака забвения».
На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия; она стояла у буфета, третий раз приготовляя кофе, усердно поглощаемый Дмитрием.