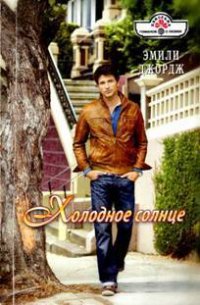Памяти Каталонии - Оруэлл Джордж (книга жизни TXT) 📗
Едва попав на фронт, мы узнали, что возвращавшийся в Англию Боб Смайли, был арестован на границе, привезен в Валенсию и брошен там в тюрьму. Смайли находился в Испании с октября прошлого года. Он несколько месяцев работал в управлении P.O.U.M., а когда прибыли другие члены I.L.P., он вместе с ними записался в ополчение и отправился на три месяца на фронт, чтобы потом вернуться в Англию с пропагандистской миссией. Только через некоторое время нам удалось узнать, за что арестован Боб Смайли. Его держали в одиночной камере, не разрешая даже свидания с адвокатом. В Испании, если не по закону, то на практике, человека могут месяцами держать в тюрьме, даже не предъявляя ему обвинения, уже не говоря о суде. Наконец, нам удалось узнать от вышедшего из тюрьмы испанца, что Смайли арестовали за «хранение оружия». Как я потом выяснил, этим «оружием» были две примитивные ручные гранаты, которыми пользовались в начале войны. Смайли захватил их с собой, чтобы демонстрировать во время своих пропагандистских выступлений, вместе с осколками снарядов и другими сувенирами. Из гранат были удалены запалы и взрывчатка, так что оно представляли собой совершенно безопасные стальные цилиндры. Это, конечно, был только предлог. В действительности же Боба Смайли арестовали за всем известную связь с P.O.U.M. Барселонские бои только что закончились, и власти делали все, чтобы не выпустить из страны кого-либо, кто мог бы опровергнуть правительственную версию. В результате, людей задерживали на границе, причем предлоги для ареста были более или менее высосаны из пальца. Вполне возможно, что первоначально намеревались задержать Смайли всего на несколько дней. Беда, однако, в том, что в Испании, если ты уж попал в тюрьму, то остаешься там – по приговору суда или без него.
Мы все еще стояли под Хуэской, но нас передвинули вправо. Теперь прямо перед нами находилась фашистская позиция, которую мы временно захватили несколько недель назад. Я исполнял обязанность teniente – это соответствует, должно быть, младшему лейтенанту в английской армии – и командовал тридцатью бойцами, испанцами и англичанами. Ждали моего официального утверждения в звании, хотя уверенности в том, что оно придет, не было. Раньте офицеры ополчения не соглашались принимать армейских званий, ибо это влекло за собой увеличение жалования и противоречило принципу равенства, принятому в рядах ополчения. Теперь они вынуждены были это делать. Бенжамен был уже произведен в капитаны, а Копп ждал производства в майоры. Правительство не могло, конечно, отказаться от офицеров из рядов ополчения, но не давало им звания выше майора, желая по-видимому сохранить высшие командные посты в руках офицеров регулярной армии и выпускников офицерских школ. В результате, в нашей 29-й дивизии и, конечно, во многих других создалось странное положение – командир дивизии, командиры бригад и командиры батальонов все были майорами.
На фронте было затишье. Бой за дорогу в Яку затих (он снова разгорелся только в середине июня). На нашем участке больше всего нам досаждали снайперы. Фашистские окопы находились примерно в ста пятидесяти метрах от нас, но они лежали на возвышенности и охватывали нас с двух сторон, ибо мы вклинивались в их линию фронта под прямым углом. Угол этого клина был опасным местом. Здесь мы несли постоянные потери от снайперских пуль. Время от времени фашисты стреляли в нас из гранатомета или подобного оружия. Гранаты рвались с ужасным треском, особенно пугавшим, ибо мы не успевали заблаговременно юркнуть в укрытие. Но особой опасности они не представляли, делая в земле лишь мелкую воронку. Ночью было тепло и приятно, днем – невыносимо жарко, нещадно грызли москиты; несмотря на чистое белье, привезенное нами из Барселоны, мы сразу же обовшивели. Белой пеной покрылись вишневые деревья в покинутых садах на ничейной земле. Два дня шли ливни, вода затопила окопы, а бруствер сильно размыло; теперь мы целыми днями ковыряли вязкую глину никуда не годными испанскими лопатами без ручек, которые гнулись как оловянные ложки.
Нашей роте обещали миномет. Я с нетерпением ждал его. По ночам мы, как обычно, ходили в патрули. Теперь это было опаснее, чем раньше – у фашистов прибавилось солдат и, кроме того, они стали осторожнее. Перед своей проволокой они раскидали консервные банки и, заслышав дзиньканье жести, немедленно открывали пулеметный огонь. Днем мы охотились на фашистов с ничейной земли. Нужно было проползти сотню метров, чтобы попасть в заросшую высокой травой канаву, из которой можно было держать под огнем щель в фашистском парапете. Мы оборудовали в канаве огневую точку. Набравшись терпения, можно было в конце концов дождаться и увидеть одетую в хаки фигуру, торопливо пробегавшую мимо щели в бруствере. Я несколько раз стрелял по этим фигурам, но навряд ли попал: я очень скверно стреляю из винтовки. Но все же это было забавно – фашисты не знали откуда в них стреляют. К тому же я был уверен, что рано или поздно своего фашиста подсижу. Однако вышло наоборот – фашистский снайпер подстрелил меня. Это случилось примерно на десятый день моего пребывания на фронте. Ощущения человека, пораженного пулей, чрезвычайно интересны и я думаю, что их стоит описать подробно.
Случилось это в самом углу парапета в самое опасное время, в пять часов утра. Солнце поднималось за нашей спиной и вынырнувшая из-за парапета голова четко рисовалась на фоне неба. Я разговаривал с часовыми, которые готовились к смене караула. Внезапно, посреди фразы, я вдруг почувствовал – трудно описать, что именно я почувствовал, хотя ощущение это необычайно свежо.
Попытаюсь выразить это так: я почувствовал себя в центре взрыва и увидел слепящую вспышку, почувствовал резкий толчок, – не боль, а только сильный удар, напоминающий удар тока, когда вы вдруг коснетесь оголенных проводов; и одновременно меня охватила противная слабость, – казалось, что я растворился в пустоте. Мешки с песком, сложенные в бруствер, вдруг поплыли прочь и оказались где-то далеко-далеко. Думаю, что так чувствует себя человек, пораженный молнией. Я сразу же понял, что ранен, но решил, – сбили меня с толку взрыв и вспышка огня, – что случайно выстрелила винтовка моего соседа. Все это заняло меньше секунды. В следующий момент колени подо мной подогнулись, и я стал падать, сильно ударившись головой о землю. Почему-то мне не было больно. Все тело одеревенело, в глазах был туман, я знал, что ранение тяжелое, но боли, в обычном смысле слова, не чувствовал.
Часовой-американец, с которым я только что разговаривал, нагнулся ко мне. «Эй! Да ты ранен!» Собрались люди. Началась обычная суматоха. «Поднимите его! Куда его ранило? Расстегните рубашку!» Американец попросил нож, чтобы разрезать рубаху. Помня, что у меня в кармане лежит нож, я попробовал его достать, но обнаружил, что правая рука парализована. Ничего у меня не болело, и я почувствовал какое-то странное удовлетворение. Это понравится моей жене, – подумал я. Она всегда мечтала, что меня ранят, а значит не убьют в бою. Только сейчас я стал думать – куда меня ранило, серьезная ли рана. Я ничего не чувствовал, но знал, что пуля ударила где-то спереди. Я попробовал говорить, но обнаружил, что голос пропал, и вместо него послышался слабый писк, потом мне все же удалось спросить, куда меня ранило. Мне ответили:
– В горло. Наш санитар Гарри Уэбб прибежал с бинтом и маленькой бутылочкой алкоголя, который нам выдавали для промывки ран. Когда меня подняли, изо рта потекла кровь. Стоявший позади испанец сказал, что пуля пробила шею навылет. Рану полили алкоголем. В обычное время спирт жег бы невыносимо, но теперь разливался по ране лишь приятным холодком.
Меня снова положили и кто-то побежал за носилками. Узнав, что пуля пробила шею, я понял, что моя песенка спета. Я никогда не слышал, чтобы человек или животное выжили, получив пулю в шею. Тонкой струйкой текла кровь из уголка рта. «Пробита артерия» – пришло мне в голову. «Сколько можно протянуть с пробитой сонной артерией? – подумалось мне. – Несколько минут, не больше». Все было, как в тумане. Минуты две мне казалось, что я уже умер. И это тоже интересно, то есть интересно, какие мысли приходят в такой момент. Прежде всего – вполне добропорядочно – я подумал о своей жене. Потом мне стало очень обидно покидать этот мир, который, несмотря на все его недостатки, вполне меня устраивал. Это чувство оказалось очень острым. Эта глупая неудача бесила меня. Какая бессмыслица! Получить пулю не в бою, а в этом дурацком окопчике, из-за минутной рассеянности! Я думал также о человеке, подстрелившем меня, – кто он, испанец или иностранец, знает ли он, что попал в меня, и так далее. Я не чувствовал против него никакой обиды. Поскольку он фашист, – проносилось в голове, – я бы его убил, если бы представился случай, но если бы его взяли в плен и привели сюда, я поздравил бы его с удачным выстрелом. Впрочем, я допускаю, что у человека, который по-настоящему умирает, бывают совсем другие мысли.