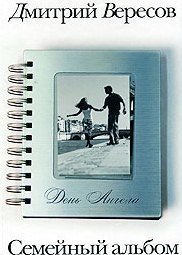Летописец - Вересов Дмитрий (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
И Михаил понял, что в эту ночь он заново влюбился в нее, и влюбился горькой любовью. Потому что испугался, а сочтет ли она его достойной парой? Испугался, что эта новая женщина будет ему не по силам. Не постарел ли он? Нет. Кажется, нет. Но огрубел, закоснел в работе. А хочется праздника.
— Мишенька. — прошептала Паша в полусне, а потом и совсем проснулась. Села, помотав головой, чтобы легли волосы, потянулась и, недовольно поводя плечами, сказала: — До чего в лифчике спать неудобно, но, пока кормлю, ничего не поделаешь. Новый бы нужен, с пуговками спереди.
— Тогда, Паша, поехали со мной в Иркутск, а? — предложил Михаил. — Меня зачем-то в обком вызывают. Вот и поехали. И Олежку с собой возьмем. Ты в Иркутске все купишь, что нужно.
— Миша, да как же с Олежкой-то? Он еще маленький, ему тяжело в дороге.
— Так мы на машине. Завтра Теркеш на «газике» приедет. Мы вас с Олежкой на заднем сиденье устроим. Езды-то всего часа два. А в городе — вы с Теркешем по магазинам, он и с Олежкой поможет, а я — в обком к Гунько. В гостинице встретимся. Уговорил? Ты ведь здесь в глуши засиделась, наверное? И прическу-то тебе, бедняжке, показать некому.
— Некому, Мишенька, даже Нинели не дождешься, — притворно вздохнула Паша и рассмеялась тихо, чтобы не разбудить мальчика. — Может, и правда. Хоть на других людей посмотрю, не леспромхоз-ных, не расконвоированных, не на бабу Мотрю с бабой Зинаидой — долгожительниц ключиковских, а на молодых и веселых.
Ключики — так называлась деревушка, расположенная между двумя маленькими притоками Ангары — Большим и Малым Ключиком. Притоки эти вместе с деревушкой должны были исчезнуть при разливе Братского водохранилища, то есть существовать им оставалось считаные месяцы. Паша поселилась в этой деревне после родов, подальше от грома стройки и суеты рабочего поселка. Пустующий дом, откуда хозяева в связи с грядущим разливом перебрались в Иркутск, немного подремонтировали, вычистили и поправили дымоход, а потом привезли мебель и посуду, и Паша, как она говорила, прекрасно устроилась. И вот теперь, спустя четыре месяца, у нее впервые появилась возможность сменить обстановку, походить по магазинам, отвлечься немного от забот.
Отец Савва, приветливый сельский батюшка, дабы не лишиться до срока прихода, вынужден был разрываться меж трех служений: Господу Единому и двум властям земным — епархиальной (потому как все равно земная, раз на земле и в облике человеческом) и государственной. Менее всего хлопот доставлял Господь, хоть и был един в трех лицах. Служба Ему была подобна службе военной: делай все вовремя и путем, и всех забот. Епархиальные власти чаще бывали снисходительны, чем грозны, а если и грозны, то пока гроза докатится до Ключиков, иссякнет, и не грозою уже будет, а… так. Батюшке, грешнику, пришло в голову игривое сравнение, касающееся звуков утихающей грозы, и он, застыдившись, схватился за Послания апостолов — всегдашнее свое утешение.
Вот если бы не третья власть, жилось бы отцу Савве и вовсе не худо. Третья власть была властью языческой, неправедной, но самой сильной и страшной, и она требовала бумажных жертвоприношений. В смысле, донесений. В смысле, «довожу до вашего сведения…». Отец Савва приносил требуемые, якобы очистительные, жертвы и доносил на прихожан, чтобы не закрыли приход, прихожанам же и необходимый. А начинал он свои донесения всегда нестандартным образом, этаким эпиграфом из Послания к евреям: «Братолюбие между вами да пребывает. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле».
Его корили за сей раскол, чинимый в делах канцелярских, и велели писать по стандартной форме. На что отец Савва отвечал:
— Вы, гражданин капитан — или, забыл, простите старика, — ма-иор?.. Маиор. Вы, гражданин маиор, сами образец даете, предваряя официальную бумагу, газету под названием «Правда», эпитафией… простите, обсказался, типун мне, эпиграфом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот я, грешный, и решил последовать высокому образцу.
И ручками разводил виновато, и глазками моргал, и носиком шмыгал, и с ножки на ножку переступал, но ерничать не бросал, и донесения его пестрели цитатами из Писания.
— Отец Савва, не прекратите, так за религиозную пропаганду потерпите, — обещал то ли майор, то ли капитан, отыскивая чайную заварку на конспиративной квартире.
— Ась? — изображал деревенского дурачка отец Савва. — Да кто же донесения-то мои читает, кроме вас, гражданин капитан? Маиор. Неужто вы их где пропечатываете? И малые сии — суть читающие — соблазняются? Новость! Новость! Или вы сами… хмм, не сочтите за дерзость… э-э-э, склонны? Так приидите же в лоно! — призывал вдохновенно батюшка, глядя на майора Лисянского наивными, добрыми глазами.
Лоно у майора Лисянского на уме было только одно — замужней стенографистки Маргоши Полежаевой-Рис, им-то он и соблазнялся, и помыслы его никак не соответствовали той заповеди, которая не велит желать жены ближнего своего. Поэтому упоминание о лоне нарушило физиологическое равновесие, которого не без труда достиг Евгений Леонидович Лисянский, прибывший на урочную встречу с отцом Саввой после совещания, где, склонив короткостриженую головку и расположив на столе большую грудь, рисовала свои загадочные приворотные знаки Маргоша. Майор едва сдержался, чтобы не выйти за рамки этикета, предписывающего вежливое обращение с агентами — служителями культа. Он засопел и процедил сквозь зубы:
— Принесли отчет, батюшка? Вот и давайте. А фокусы ваши в последний раз терплю. Ваш приход и так скоро перестанет существовать по причине затопления, а будете фокусничать, так другого вам не видать. Доиграетесь: напишу в консисторию. Где бумага-то? Давайте сюда.
— «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас», — себе под нос забормотал Савва и потащил из-под рясы конверт, — от Матфея, глава седьмая.
— Это вы, отче, на что намекаете? — насторожился майор Лисянский. — Это кто здесь свинья?
— Я к слову, к слову. Уж и сказать ничего нельзя, — оправдывался батюшка. — Евангелие повторяю. Стар стал, память уж не та. Вот и твержу и зубрю, аки зеленый отрок из духовного училища.
Он вручил наконец заветный конверт майору:
— Вот вам. Примите. «Мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии». Первое послание коринфянам, глава четвертая.
— Смирение паче гордости, а, батюшка? — развеселился майор.
— Паче, — кивнул батюшка и выжидательно посмотрел на Лисянского.
— Ах да, — делано спохватился тот и в свою очередь протянул батюшке конверт, с видом превосходства и в то же время несколько брезгливо: — Ваш гонорар. Расписочку позвольте.
— «Как не иду к вам, то некоторые у вас возгордились», — пробормотал отец Савва, принимая конверт и расписываясь в бланке. — К коринфянам же, глава та же. На нужды прихода, стало быть.
— На нужды, — отмахнулся Лисянский. — Идите себе, Савва Иванович, с Богом. Жду через две недели.
Отец Савва, пребывая в горести по поводу своего окаянства, заторопился в Ключики, где ждала его поллитровка «Пшеничной», настоянной на лимонной корке. А майор Лисянский развернул Саввино донесение, как всегда предваряемое известным эпиграфом. Само же донесение разделено было на части по принципу причастности попа к описываемым фактам: «В чем прихожане исповедуются», «Чему свидетелем был», «Какие слухи ходят». Текст пестрел нравоучительными и язвительными комментариями самого Саввы. Евгений Леонидович, хотя и корил попа за несоблюдение правил написания официальных бумаг, все же не без удовольствия читал сообщения батюшки. Забавлялся майор.
Он заварил чай, насыпал в стакан четыре ложки казенного сахару, вытащил из портфеля бутерброд с колбасой и приступил к чтению. Так:
От отца Саввы, попа Ключиковского прихода, в миру Саввы Ивановича Кантонистова, маиору Лисянскому, Евгению Леонидовичу
Донесение
Довожу до вашего, маиор, сведения, что прихожане все еще, бывает, ходят к исповеди. А исповедуются вот в чем.
Параграф первый. В чем прихожане исповедуются.
Бабка Мухина, Матрена Игнатьевна, пенсионерка, Великим постом оскоромилась: съела яичницу из трех яиц с салом. Пришлось наложить легкую епитимью. Невелик грех.
Бабка Огузова, Зинаида Парамоновна, пенсионерка, соблазнилась. Стащила у бабки Мухиной, М. И., пенсионерки, когда была у той в гостях, красивую булавку с красной головкой, в чем и покаялась. Велел булавку возвратить с извинениями и больше на воровство не покушаться.
Дед Елкин, Николай Фомич, пенсионер и инвалид, покаялся, что, когда молод был, за девками в малиннике подглядывал, куда они по нужде бегали. И сожалел, что теперь так стар стал, что и подглядывать неинтересно. Ну что с ним, со старым хреном, сделаешь! И так инвалид.
А больше никто к исповеди не ходил.
Параграф второй. Какие слухи ходят.
Расконвоированный Жбан, а в миру Жбанов Федор Васильевич, бегает со служебного входа в бакалею к продавщице Мисиной Катерине Сергеевне и уединяется с ней в подсобке надолго. А в бакалее очередь неудовлетворенных покупателей постного масла и сахара ждет.
Про меня, грешного, слухи ходят, что ежедневно пьян бываю. Так не верьте. Пьян бываю раз в две недели — отмечаю, как праздник, встречу с вами, гражданин маиор.
Гражданка Зуева, Татьяна Борисовна, варит самогон под названием «зуевка» и продает желающим по низкой иене.
Больше слухов не слышал. Все прочие слухи в газетах пропечатаны.
Параграф третий. Чему свидетелем был.
Гражданка Лунина Прасковья Карповна, проживающая временно в поселке Ключики, крестила на прошлой неделе сына своего, Олега, четырех месяцев от роду. О чем раньше думала, непонятно.
Демобилизованный из рядов Военно-морского флота Иващенко Андрей Ильич, по прибытии в поселок Ключики, на свою то есть родину, выпив «зуевки», подрался с демобилизованным из рядов Советской армии Подпищиным Георгием Руслановичем, тоже бывшим в подпитии. Кто победил, я так и не понял. Оба полегли прямо на площади перед церковью.
Засим — все. В чем и подписуюсь…
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми нами. Аминь (кн. Откровения, гл. 22).
А еще разрешите спросить, гражданин маиор: доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать лжи?