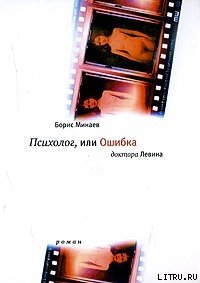Ельцин - Минаев Борис Дорианович (читать книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Позднее он заслужит упрек в популизме: мол, защищая «обиженных и угнетенных», разыграл самую удобную в политике карту. Однако мне более точной и в то же время более парадоксальной представляется другая мысль: будучи сам до мозга костей советским человеком, он был искренне потрясен той социальной пропастью, которая открылась ему в Москве, — пропастью между управляющими и управляемыми.
На самом глубоком, личностном, ментальном уровне Ельцин не приемлет устройство Москвы как микромира, который не подчиняется ничему, кроме своих собственных неписаных законов.
Он, «человек из Свердловска», был другим. Их семья была другой. Ельцины не уставали поражаться тому, как здесь, в Москве, в ЦК, устроена жизнь «начальников». На их провинциальный взгляд, эта «роскошь» была непомерной. На фоне всего этого привычка Наины Иосифовны самой ходить по магазинам за сосисками, курами и всем прочим, самой сдавать белье в прачечную выглядела уже почти смешной. Но она продолжала упрямо ей следовать.
Борьбу Ельцина с московским правящим классом интересно проанализировать в контексте горбачевской «перестройки». Вряд ли Горбачев, доверивший Ельцину Московскую партийную организацию и жизнь этого огромного города, мог себе представить, что Б. Н. за полтора года уволит львиную долю секретарей московских райкомов — больно затронет особую касту, в ведении которой находятся министерства, институты, академии и главки, связанную с центральной властью самым непосредственным образом.
Но вряд ли Горбачев понял подтекст этой борьбы.
В Москве Ельцин лишь воспроизвел свой глубокий конфликт с советским менталитетом. Конфликт руководителя, который требовал подчинения тех, кто должен подчиняться, и хорошей работы от тех, кто должен работать, — с системой двойных стандартов, когда говорят одно, а имеют в виду совсем другое, с системой связей и зависимостей. Разобраться в них было практически невозможно — можно было только принять на веру.
Он не хотел ее принимать. И в ответ система не приняла его.
Но есть и другая сторона этой борьбы.
В Свердловске Ельцин тоже видел мир «спецбуфетов» и «спецполиклиник» — и мир бараков, мир заводских проходных. Однако в своем городе он мог что-то изменить, сделать жизнь людей более сносной, добиться какого-то результата.
В Москве это было невозможно. Здесь гармония (если понимать ее как устойчивость системы) была как раз в том, что на одном конце «мира» были блага, а на другом — тяжелые условия жизни «лимитчиков». Одно обеспечивало другое. Одно зависело от другого. Всё было взаимосвязано. Всё сливалось в единую систему. И называлась она просто — столица империи.
Ельцин видел эту жизнь по-другому — глазами человека, который приехал сюда из глубины империи.
Принять эти контрасты как должное он не мог категорически.
Однажды Б. Н. попал в спальный район, где рассматривался вопрос о «благоустройстве», и этот его приезд был дотошно зафиксирован корреспондентами московских и западных газет. (Это была обычная «хрущоба», пятиэтажка, панельный дом в одном из спальных районов.)
«Когда Ельцин приехал, его тут же окружили плотным кольцом сотни кричащих людей, другие наблюдали с балконов. “Спуститесь в подвал! — кричали люди. — Мы по колено утопаем в вонючей грязи! Канализационная труба давно проржавела! Крыша протекает, и всем на это наплевать!” Ельцин спустился в подвал. Когда вышел оттуда, ему предложили взглянуть на кучи мусора во дворе, которые валялись там. Кольцо вокруг первого секретаря сжималось все плотнее. “Среди мусора ползают крысы, а рядом играют наши дети!” — кричали ему люди», — писал московский корреспондент одной из американских газет.
Все это было хорошо ему знакомо и по Свердловску. Там бывало порой и хуже.
Поразило не это, а само настроение толпы, те самые «отчаяние и ярость», невероятный выплеск коллективных эмоций, с которыми он столкнулся лицом к лицу. Именно здесь, в Москве.
Там, в Свердловске, людям помогало чувство стабильности, непреложности бытия — так всегда было и так всегда будет. Скудный быт, тяжелые условия, грязь, нехватка самого необходимого. Все это преодолевалось именно благодаря общему чувству народного упорства, терпения, покорности и фатализма — «после войны было гораздо хуже», «постепенно жизнь улучшается», «все равно ничего не изменишь», «надо жить, выживать, надо надеяться на лучшее». С этим настроением, миросозерцанием народа он привык иметь дело, ему было понятно — почему они терпят и на что надеются.
Здесь, в Москве, он внезапно ощутил — их терпение кончилось.
Это было совершенно новое, резкое и странное чувство.
Оно преследовало его повсюду.
В магазине, где на него налетела продавщица, или в уличной толпе, где он вечно наталкивался, выходя из машины, на чье-то перекошенное от эмоций лицо, а порой и не одно, а сразу несколько, которые излучали отнюдь не привычное любопытство, народное возбуждение или умиление тем, что «сам» пришел пообщаться, а именно это глухое отчаяние, эту ярость: «Передайте Горбачеву! Борис Николаевич! Мы за вас! Передайте Горбачеву!»… Обычно таких крикунов быстро оттаскивала милиция, но оставленный ими в воздухе тревожный импульс продолжал бить ему в спину.
И на встречах с разными «активами» — он ощущал эту нервозность, повышенную, нездоровую эмоциональность, разлитую в воздухе.
Да, терпение кончилось. И этот перелом настроения спровоцировал сам Горбачев. Любое непривычное, дразнящее, новое слово, напечатанное в газете или в журнале, любая статья, любое разоблачение — всё нагнетало нетерпеливое, жадное ожидание, доходящее до истерики, эту невозможность оставаться в том же положении, этот общественный протест.
Особенно остро он это почувствовал на встрече с представителями неформального общества «Память», которая состоялась в горкоме совершенно спонтанно — они сами, без предупреждения, собрались перед горкомом, милиция хотела вмешаться, но он не позволил разгонять толпу, обещал выслушать.
Это были необычные люди, пожалуй, он таких раньше не видел — многие с огромными бородами, с длинными волосами, другие бритые, в черных рубашках, мрачные, говорили с ним требовательно, сурово и на каком-то странном языке, старательно внося в свою речь старинные обороты и как будто постоянно на что-то намекая.
С одной стороны, ему была интересна эта встреча, он внимательно выслушал и пообещал помочь в деле охраны памятников старины (впрочем, многое из того, что они говорили, и так ему было хорошо известно), но главное впечатление осталось все то же — терпение кончилось, это уже другие люди, не такие, как прежде, они способны на многое. Они, говоря прямо, уже способны на бунт.
Он пытался передать это ощущение тревоги, закипающего котла, проснувшегося вулкана — в сухих деловых формулировках, например, выступая на Политбюро или на пленумах ЦК.
Речи и выступления Ельцина той поры вообще производят сегодня странное впечатление. Это не речи пламенного оратора, но и не речи скучного партийного функционера времен перестройки. В них слышен скрежет медленно сдвинувшихся колес истории, заржавевших от долгого ступора, страшный скрежет сознания, которое пытается вместить в себя реалии нового времени, — но выразить их на старом, привычном административном языке приказов и установок невозможно. В них слышно нагнетание тревоги и волнения, но только в построении фраз, в необычайном напряжении, с которым Ельцин, пытаясь сохранять спокойствие, говорит о том, что видит вокруг.
Вот один из самых характерных фрагментов его речей того времени: «Хочу откровенно высказать беспокойство по ряду вопросов. Много возникает “почему?”. Почему из съезда в съезд мы поднимаем ряд одних и тех же проблем? Почему в нашем партийном лексиконе появилось явно чуждое слово “застой”? Почему за столько лет нам не удается вырвать из нашей жизни корни бюрократизма, социальной несправедливости, злоупотреблений? Почему даже сейчас требование радикальных перемен тонет в инертном слое приспособленцев с партийным билетом?» И вот, пожалуй, самое важное, ключевое: