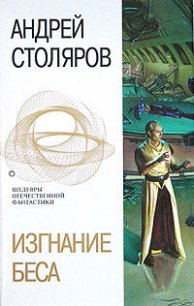Обратная перспектива - Столяров Андрей Михайлович (электронные книги бесплатно .TXT) 📗
Правда, и время уже размягчалось, как пластилин. Империя угасала, в самом дряблом воздухе ощущалось предвестие пустоты. Умер наконец Брежнев, казавшийся вечным и убаюкивавший страну громадными бессодержательными речами, тут же умер пришедший было на смену ему Андропов, невнятным пятном проступил Черненко, запомнившийся лишь в анекдоте про человека, который «поддерживал» его на трибуне; пришел некий Михаил Горбачев, поразивший всех тем, что пробовал говорить без бумажки. Грянула идиотская антиалкогольная кампания, породившая в винных магазинах километры очередей. Начались такие же идиотские разговоры о каком-то мифическом «ускорении». Дескать, стране необходимо интенсивное социально-экономическое развитие. Мелькнуло странное слово «гласность», и неожиданно, с энергией воробья, запорхало по страницам газет. Как это прикажете понимать? Начали пробуждаться какие-то слабенькие надежды. Евгений Францевич, правда без особого энтузиазма, сказал, что в условиях «опаздывающих изменений» любое реформаторское движение смертельно опасно. Система заизвестковалась, ее нельзя трансформировать, можно только разрушить. Причем стоит лишь тронуть – и все само собой начнет оползать. Процесс станет исторически необратимым. Привел в пример Английскую революцию 1649 года, Великую французскую революцию, Октябрьскую революцию, после которой Россия надолго погрузилась во мрак. Выглядело это несколько странно: какая может быть революция в СССР?..
– Почему, собственно, нет? – удивлялась Нинель. – Ты же историк и знаешь, что вечных государств не бывает. А финал государства – это всегда либо революция, либо война. Либо, если не повезет, – и то и другое одновременно… А главным признаком приближающейся революции является знаешь что? Догадайся! Наличие анекдотов про власть! Как только про власть начинают рассказывать анекдоты, всё, можно с уверенностью утверждать: этой власти – конец.
Она небрежно пожимала плечами. Мальчик лишь изумлялся – впервые слышал, как она говорит. Откуда вообще эта фифа взялась? Борис Гароницкий, который был старостой семинара, как-то шепотом, пока ждали на лестнице, пояснил, что – из Педагогического института, и не историк вовсе, а будущий учитель литературы, была на лекции Евгения Францевича, которую он там однажды читал, по-девичьи воспламенилась, всеми правдами и неправдами достала его телефон, напросилась в гости, пришла один раз, другой, умолила, чуть ли не со слезами, позволить ей присутствовать на «четвергах». Якобы дала клятву во время заседаний молчать, и действительно, в течение года не произнесла ни слова, сидела в кресле, как изваяние, лишь иногда бесшумно выскальзывала и исчезала в недрах квартиры, минут через десять вкатывала столик с чаем и бутербродами – жену Милля, Маргариту Викентьевну, мальчик, как и все остальные, лицезрел один-единственный раз, графиня прежних времен: букли, орлиный нос, пронзительная синь зрачков, серый жемчуг на шее, к гостям она практически не выходила. Бутерброды же по большей части пожирал Еремей. Поглощал их с кошмарной скоростью, как снегоуборочная машина, только прыгал на шее кадык: вверх-вниз, вверх-вниз! Среди присутствующих он был единственным иногородним. Иногда, напиваясь, кричал: «А ты знаешь, что такое Моршанск?.. Поживи в Моршанске хоть год, дерьмом тамошним подыши, потом уже выступай!.. Вы, городские, заевшиеся, вообще этого не понимаете!..» Страшноват становился в такие минуты, выступала вперед лесенка кривоватых зубов. Обитал в общежитии, очень мучился из-за денег, подрабатывал на кожевенной фабрике, прятавшейся среди окраинных тупичков, иногда от него ощутимо попахивало черт те чем, зато когда поздним вечером (опять же возвращались от Милля) вынырнула им навстречу из подворотни троица в надвинутых кепарях и по моде тех лет угрожающе потребовала закурить, Еремей цыкнул зубом и равнодушно спросил: «Чив-во?..» – троица тут же слиняла, он плюнул им вслед: шмакодявки…
А Нинель мальчик тогда проводил до дома. Шли почему-то вкружную, описав по вечерней Коломне громадную, поперек заката дугу. Уже, конечно, не вспомнить, о чем был суматошный, спотыкающийся разговор. Кажется, о Хейзинге и Броделе – мальчик тогда увлекался «историей повседневности». Однако вот что врезалось навсегда: поворачивая с Пряжки на Мойку, перегороженную в том месте броней адмиралтейских ворот, он вдруг спросил – а знает ли она, что означает имя Нинель? Это ведь Ленин, если читать слово наоборот, мягкий знак добавлен, чтобы придать произношению женственность. Нинель суховато ответила, что, разумеется, знает. А еще были тогда Октябрина, Вилора и Даздраперма, сказала она. Ничего удивительного: революция – это сотворение мира. Как бог, создав небо и землю, провел животных перед Адамом, чтобы тот дал им имена, так поколение, вступающее в преображенный мир, именует его на своем собственном языке. В новом мире все должно быть иным: слова, одежда, человеческие отношения, вспомни хотя бы теорию «стакана воды»…
Расстались они там, где темнел хвоей Румянцевский сад. Мальчик потом долго раздумывал, что она имела в виду. О теории «стакана воды» он, конечно, читал: подразумевалось – в упоении первых послереволюционных побед, – что половая потребность не должна обременять человека: удовлетворить ее так же просто, как выпить стакан воды. Поддерживала и благословляла лично госпожа Коллонтай… Так вот что Нинель, упоминая об этом, имела в виду? А бог его знает, что она там имела в виду. Когда через две недели вновь встретились на семинаре, даже не повернула в его сторону головы. Полное отчуждение. Как будто он ее до дома не провожал. Как будто не стлал по асфальту полосы багровый закат. Потом вообще исчезла – ни телефона, ни адреса, ничего.
Однако все это было несколько позже, а тогда, после бурного заседания, где Евгений Францевич говорил о закономерностях революций, вышли втроем на изгибающийся канал, спустились к воде, сели на гранитных ступеньках. Еремей по обыкновению вытащил из портфеля бутылку портвейна – аккуратно выпили, задышали, оглядываясь, нет ли милиции, потом он, закурив мятую «шипку», сказал, что вот сколько трендим, два года уже, а никто ни разу не заикнулся, что Октябрьской революцией руководили евреи. Почему Милль об этом молчит?
– А ты спроси у него, – лениво посоветовал Юра Штымарь.
– Ну да, спроси у него! Сам спроси!..
– А что? Он же из немцев, – сказал Юра Штымарь.
– Ну да, знаем мы таких немцев по фамилии Милль…
Грезилось впереди лето. Спорить никому не хотелось. Гранит был горячий, в окнах на другой стороне пылал стеклянный ослепительный жар. На него было больно смотреть.
Плыл дымным мороком тополиный пух по воде.
Прокатывался по набережной шелест редких машин.
Мальчик прикрыл глаза.
Он был счастлив.
Медленно, словно боясь самого себя, проступало сквозь напластования духоты невнятное будущее.
Теперь немного о Юлии.
Есть женщины, сделанные из промозглых сумерек. Рядом с ними все время ощущаешь в душе зябкую дрожь. Ее не может преодолеть даже любовь. Впрочем, любви здесь нет – есть страсть, которая вспыхивает на мгновение и тут же захлебывается, оставляя после себя удушливый чад… Есть женщины, сделанные из пластмассы. От них любые слова отскакивают, как теннисный мяч. С одной из них я, помнится, столкнулся как-то на радио: она притащила с собой распечатку в двести с лишним машинописных страниц и все время пыталась зачесть оттуда ряд цифр. Во время рекламных пауз мы с ведущей пытались ей объяснить, что десятые доли процента слушателей не интересуют. Скажите то же самое, но простым языком. Девушка вроде бы соглашалась, но потом вновь хваталась за текст и опять порывалась зачесть ряд цифр… Есть женщины, сделанные из дерева – о них больно царапаешься, есть женщины, сделанные из металла – о них ушибаешься до синяков. Есть женщины, сделанные из пластилина – они такие, какими их хочет видеть партнер. Этих, кстати говоря, большинство. Есть женщины, сделанные из плюша, есть женщины, сделанные из серенького осеннего дня. Есть женщины, сделанные из колечек и рюшечек, есть из приторного сиропа, есть из кошачьего требовательного мяуканья, назойливо вворачивающегося в мозг. И, наконец, есть женщины, сделанные из солнечного тепла. Встречаются они очень редко, но если уж встретишь, угадываешь это каким-то чутьем. По крайней мере, у меня именно так. И так же абсолютно точно угадываешь, что это не спонтанный эротический резонанс, чисто временный, который можно без труда исчерпать, а нечто совершенно иное: вдохновение бытия, что-то начальное, питающее основу всего, энтелехия, если пользоваться определением Аристотеля, то, что превращает предполагаемое в реальное, безличное существование – в жизнь.