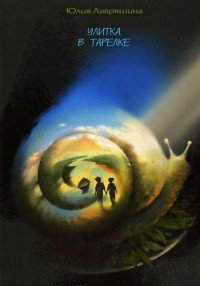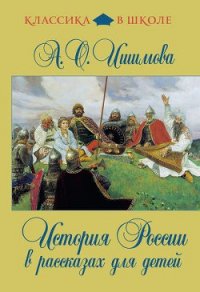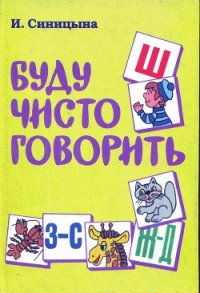Свободные от детей - Лавряшина Юлия (читать книги полные .TXT) 📗
Сцепив на коленях руки, она смотрит перед собой, но во взгляде ее не трагизм, а нежность. И неподдельные слезы дрожат в голосе:
— Такой дурачок… Погубил себя. Талант свой, Богом данный, погубил…
Я прощупываю выход на знакомую тему:
— А если б у него там не было детей?
— Не знаю, — не сразу опровергает она. — Может, это уже ничего не изменило бы. Слишком долгая прелюдия к браку ни к чему хорошему не приводит. Мы оба перегорели… Успокоились. Конечно, ровные отношения в семье — это очень даже неплохо. Скандалов меньше. Но мы-то еще помнили, как сходили друг по другу с ума! И мне казалось, что любовь уже умерла. Что мы могли предложить взамен? Дружить лучше было на расстоянии. По крайней мере, мне так казалось тогда.
Вспышка улыбки:
— Хотя сейчас я, пожалуй, не отказалась бы от присутствия верного друга! Но в то время мне еще мерещились будущие страсти…
— Были? — не выдерживаю я.
— Были, — соглашается Зинаида Александровна. — Но какие-то…
Она изображает «пшик» и смеется:
— Страсти на одну ночь. Надеюсь, у вас не так с этим шведом?
— Нет, — отзываюсь я. — У нас на четыре дня. Осталось три…
Публика в Швеции доброжелательна просто неправдоподобно. Когда взрослые мужики в зале отбивали себе ладони на нашем спектакле, я хоть с изумлением, но еще приняла это. Но Леннарт устроил мой творческий вечер, и такие же мужики с круглыми лицами и крепкими плечами еще до того, как я открыла рот, уже аплодировали мне так, будто к ним приехал сам Достоевский. Никто из сидящих в зале, конечно, до этого вечера даже имени моего не слышал, но их физиономии просто светились от радости. Мне даже подумалось, что стоит перебраться в эту страну насовсем, лишь бы столько энергии получать от своих еще только потенциальных читателей. Что сказал бы Леннарт, если б я объявила ему, что собираюсь поселиться в Стокгольме?
Он смотрит на меня так же восторженно, как и остальные, и аплодирует, вытянув и без того длинные руки. Ему предстоит переводить все, что я собираюсь сказать, для этого Леннарту необходимо думать созвучно со мной. И хотя не ради успеха этого вечера я легла с ним в постель, мне все же кажется, что теперь он понимает меня чуточку лучше. Что его перевод будет не дословным, а творческим — глубинным. Тогда эти люди, авансом подарившие мне столько любви, смогут поверить, что я того стою.
— Как ты будешь переводить отрывки, которые я зачитаю? — спрашиваю я шепотом.
Он напускает на себя серьезный вид:
— Я не буду их переводить. Пусть они слушают музыку твоих слов.
— Думаешь, она есть — музыка?
— Я же ее слышу, — удивляется Леннарт.
Его слова откликаются во мне приливом нежности, которой я не хочу. Как могу противлюсь всему теплому, что начинает ворочаться в душе, когда я смотрю на это светлое лицо, на котором теперь почти всегда улыбка. Будто я и впрямь излечила его от творческого кризиса, и Леннарт пребывает сейчас в блаженном состоянии новорожденного, открытого для жизни, которая видится сплошной цветочной поляной, над которой мотыльками порхают новые стихи.
Но подобное излечение с чьей-то помощью невозможно, ведь нам не пишется не потому, что кто-то любит или не любит нас… Люди, что находятся вокруг и даже на расстоянии дыханья, не так уж влияют на процесс творчества, как это кажется непосвященным. Все происходит внутри пишущего и неподвластно законам внешнего мира, хотя мы рассказываем о нем в своих книгах, пытаемся исследовать его, наблюдаем за ним. Но его влияние на творчество каждого из нас очень относительно. Иначе люди не смогли бы написать ни строчки в нищете, в тюрьме, в больнице…
А мы рисуем словами в любых условиях, нам даже не нужен вид из окна, потому что существует память, и она переполнена выпуклыми деталями, острыми запахами, разноцветными сокровищами нашего детства, из которого тот же Набоков качал и качал. И существует воображение, способное переместить нас в любую точку земного шара и познакомить с людьми, которых нет на самом деле…
Мы можем влюбляться в них, ненавидеть их, спорить с ними. А они в ответ способны править задуманный нами сюжет, и плевать им, какой синопсис уже одобрило издательство, потому что вдруг всплывает какая-то мелочь, которой не предусмотрел близорукий автор, и если тот выдуманный человек не поможет, пустив ход событий по другому, им проложенному руслу, то все пойдет наперекосяк, все окажется неправдой. Герои не планируют заранее, как им жить, не делают набросков… Они просто живут и позволяют нам наблюдать за собой.
И я поступаю подобно любому из них: говорю и читаю то, что хочется сказать и услышать мне самой. Зал затихает, внимая нашему дуэту, и в какой-то момент мне вдруг начинает казаться, что мы слились с Леннартом в одно, что этот человек создан для меня, как никто другой, и мы не только говорим — думаем в одном ритме. Там, в моем номере, этот ритм был идеален, только там ему подчинялись наши тела, не души. А сейчас мне слышится мелодия на двоих, которую мы сочиняем на ходу. И она заставила замереть этих людей, не знающих моего языка, не читавших моих книг. Мне кажется это волшебством.
Я говорю об этом Леннарту, когда все автографы розданы, цветы получены и мы остаемся в зале вдвоем. Он улыбается:
— Все было очень хорошо.
Я сжимаю его мягкие, детские на ощупь щеки:
— Хорошо! Все было просто потрясающе! Полная иллюзия, что все в зале понимали русский. Или я говорила по-шведски. Ты потрясающий переводчик!
У него болезненно дергается рот:
— Лучше б я был таким поэтом…
— Прочитай мне свои стихи.
Я сажусь на первый ряд с самым внимательным видом, даже ногу на ногу не закидываю, чтобы ему не померещилось пренебрежение, а Леннарт в растерянности переминается на сцене.
— Но ты же не поймешь…
— Я постараюсь. Раз уж сегодня здесь творятся чудеса. — Потом повторяю то, что сказал мне он: — Я буду слушать музыку твоих слов.
И слышу ее. Глядя поверх моей головы, Леннарт произносит долгие, протяжные строки, цепляющиеся друг за друга так ловко, что меня увлекает сплошным потоком — не сознания, отстраненного и холодноватого, а чего-то более теплого, более взволнованного. Это можно назвать потоком эмоций, в котором мучительно слились и любовь, и безнадежность, и лиственный трепет надежды… Ломкие тени дрожат на асфальте, и суровое море швыряет живые волны на скалы, разбивает их вдребезги, без сожаления, без раскаяния. А уставшее от тысячелетнего пожара страсти солнце наблюдает за ними, продолжая мучить себя вспышками, и люди откликаются на них болью сердца.
Действительно ли все это было в стихах Леннарта, или я придумала их, как придумала его самого — какая разница? Скандинавская фантазия на четыре дня, неужели я не могу себе позволить? Кто мне запретит ненадолго сойти с ума и самой себе объявить, что я счастлива до того, что хочется бежать вприпрыжку по кромке воды, задрав платье, сверкая голыми лодыжками, и, дурачась, брызгать в лицо, которое на самом деле хочется гладить мокрыми ладонями, целовать солеными губами?!
В эти дни вкус моря во всем: в словах, которые произносит Леннарт, в жидкости, переливающейся из его тела в мое, в тщательно скрываемых мыслях о жизни, зародившейся внутри мирового океана… В светлых волосах Леннарта, легких, парящих в воздухе, мне уже чудятся зеленые водорослевые пряди Посейдона, который сам — море, с его непокоем и страстностью, пронзительной синевой глаз и волнующимся в глубине желанием бури. Мне так хочется нырнуть туда, где прячутся жемчужины его стихов, где непогрешимая тишина, которой я так ищу в мире неугомонном и шумном. А нахожу только ее убогое подобие, потрескавшееся от детских воплей и гудков машин.
Когда Леннарт умолкает, продолжая завороженно смотреть в ему одному видимую точку, я подхожу к нему и целую в губы.
— Хорошо, что мы встретились, — говорю вполне искренне. — Мы выйдем из этих четырех дней немного другими. Обновленными. Нам будет о чем писать…