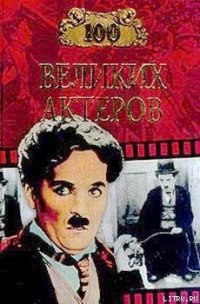Исповедь старого дома - Райт Лариса (бесплатные книги полный формат TXT) 📗
Светил приводил отец. Он развил бурную деятельность; Мишка не понимал, что скрывается за таким решительным намерением изменить ситуацию: действительная слепота и глухота к реальности, обычный страх и нежелание взглянуть правде в глаза или праведное и завидное умение надеяться и ждать вопреки всему?
Сам Мишка сестрой интересовался мало. Не потому, что она была ненормальной, хотя подобный эпитет в доме был под запретом; врачи даже до Мишки добрались с объяснениями, что дауны — это не такие дети, как другие, и не более того. Слово могли вычеркнуть из лексикона, но не из мыслей мальчика. Подростки — максималисты. Все либо черное, либо белое, поэтому ненормальность воспринималась пятнадцатилетним юношей как совершенно очевидная и неоспоримая. Но его отпугивало от нее не это. Многие другие на его месте были бы счастливы, что родители мало озабочены, где он бывает и что делает. Никто не контролировал его, никто (наконец-то!) не поучал, никто не лез в душу. А Мишка почему-то страдал и поэтому никак не мог полюбить маленький несчастный кулек, отобравший у него материнское внимание.
— Я сочинение написал по Есенину.
— Хорошо, сынок, дай мне, пожалуйста, бутылочку.
— Мам, оно по «Анне Снегиной», а это вне школьной программы.
— Ну, молодец, молодец… Послушай, ты не видел, здесь лежала аннотация к новому лекарству? — Мама оглядывала рассеянным взглядом комнату.
— Мам, Вера Петровна собирается его на конкурс послать, представляешь?! Говорит: «Победа обеспечена!» Я вот почитать принес, пока она не отправила. — Мишка гордо вытягивал руку с зажатой в ладони тетрадью.
— Черт! Ну куда же она запропастилась?
— Кто, мам?
— Да аннотация же! Пойду посмотрю на кухне.
— А Есенин, мам? — Разочарованная рука повисала в воздухе.
— Ты положи здесь, я потом почитаю.
Потом не наступало ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц.
— Пап, я прошел вольнослушателем во ВГИК. Это, конечно, не то, о чем ты мечтал. Никакой физики и математики, но мне это по душе, пап, понимаешь?
Мишка долго готовился к этому разговору. Представлял, как отец начнет рвать и метать, кричать, что актеров в их роду никогда не было и не будет, называть его бездарем и красной девицей. Даже прикидывал, сколько времени — несколько минут или несколько дней — будет обижаться, прежде чем объявит, что собирается вовсе не на актерский, а на режиссерский. И тогда наверняка отец немного смягчится. Все-таки режиссер — это больше мужская профессия, и уж красными девицами ее обладателей точно не назовешь.
Мишка, зажмурившись, выпалил признание и приготовился к нападению: втянул голову в плечи, задержал дыхание. Но буря все не наступала. Отец молчал, и Мишка решил, что тот настолько подавлен сообщением, что даже растерял все слова, необходимые для упреков и возвращения заблудшей овцы к нормальной жизни.
Юноша принялся защищаться, так и не дождавшись атаки:
— Пап, все гораздо лучше, чем ты думаешь. Я стану режиссером. Я буду хорошим, вот увидишь. Я уже снял несколько сюжетов нашей камерой, и они понравились. Потому меня и взяли. Пап, я ведь школьник еще, а уже вольнослушатель ВГИКа, почти студент. Пап, этим можно гордиться.
Мишка, наконец, выдохнул и взглянул на отца. Тот сосредоточенно читал какую-то книгу, шевеля губами и что-то бормоча себе под нос.
— Что? Что ты говоришь, пап?
— Я говорю, что этот новый метод лечения истинного ДЦП довольно занятен. При правильном подходе и систематическом лечении, скорее всего, действительно возможно добиться некоторых положительных результатов. Надо будет познакомиться с автором, — он взглянул на обложку. — Ты, кажется, тоже что-то говорил, а?
— Я говорил, что собираюсь стать режиссером.
Отец не удивился и не рассердился, только пожал плечами:
— Режиссером так режиссером, — и отправился звонить очередному, трехсотому, гению врачевания, призванному помочь его ненаглядной девочке.
Мишка не узнавал отца. Обычно жесткий и несентиментальный, доходивший до абсурда в своей косности, он превратился в человека мягкого и зависимого. Зависимого от маленькой девочки, отстающей в развитии и умственном, и физическом, слабенькой и глупенькой, беззащитной и несмышленой, девочки, которую он любил безгранично и в заботах о которой проводил дни и ночи напролет.
Деятельность отца не ограничивалась беседой с доцентами и профессорами медицинских институтов. Если раньше он посвящал свободное время кроссвордам и головоломкам, то теперь физический труд полностью заменил ему умственный. Нет, он по-прежнему ходил на работу, писал труды и курировал диссертации, разве что с аспирантами теперь встречался исключительно в институте, не приглашая домой. Но, боже упаси, не из-за того, что стеснялся больного ребенка, а из-за того, что лишние микробы в квартире не приветствовались. Едва перешагнув порог, академик уже что-то мыл, скоблил и чистил. Кормил дочку, купал, вывозил гулять и все время разговаривал с ней, рассказывая о том, как поведет в зоопарк, в парк, в театр и еще в десятки разных интересных и любопытных мест.
Мишка испытывал безграничное удивление и зависть к ребенку, который одним своим появлением заслужил и получил то, что Мишка не смог сделать и за пятнадцать лет: безоглядную и безусловную отцовскую любовь. Не было в милом, добром, ласковом тоне, которым отец обращался к дочери, ни менторских, ни рассерженных, ни тем более раздраженных ноток, которые всякий раз проскальзывали в его былом общении с сыном.
Отец стал терпимее ко всему окружающему миру, и Мишка сам не заметил, как его зависть к сестре переросла в благодарность. Да, не стало веселых посиделок на кухне с разговорами о театре, литературе и мужчинах, да, не прибегали веселые аспиранты, никогда не отказывавшиеся решить мудреную школьную задачу по алгебре. Да, никто не интересовался его сочинениями, контрольными и планами на будущее, но — Мишка не мог этого не замечать — вместе с несчастьем в доме воцарилось счастье. Казалось, в лечении дочери отец обрел смысл жизни и не уставал благодарить жену за это. Мама, измученная бессонными ночами и постоянным существованием в режиме, предписанном ребенку, конечно, не посвежела, но похорошела необыкновенно. У нее не было времени ходить по парикмахерским, делать прическу, маникюр и массаж. Фигура после вторых родов расплылась и потяжелела, волосы обрамляли пожелтевшую кожу лица неровными прядями, одежду навсегда заменил теплый байковый халат, и только глаза в обрамлении все еще густых изредка подкрашиваемых ресниц светились победным счастливым светом. За эти глаза Мишка мог отдать и простить все.
Он и простил. И невнимание к себе, и ревность, что съедала его долгие месяцы, и даже смерть любимой бабушки, которую родители, поглощенные общей задачей, казалось, не заметили. Нет, конечно, захворавшую старушку отправили в лучшую клинику, и врачей не обидели, и с кем надо договорились, но о результате чрезмерно не беспокоились. В детской кроватке лежала главная жизненная ценность, а остальное вторично.
Человек смертен. Это естественно. Бабушка умерла. Похоронили, погрустили, посидели за накрытым столом — и понеслись дальше в своем неустанном желании спасти, научить и поставить на ноги. Мягкий, довольный голос отца и счастливые от этого мягкого довольства глаза матери, теплота и уют, поселившиеся в теперь почти всегда неприбранном доме, где пахло не пирогами, а лекарствами. Мишка, все удивлявшийся переменам, часто ловил себя на мысли: «Надо же! Прав был отец!» И сделал вывод: никогда не надо бояться трудностей.
— Никогда не надо бояться трудностей, — ответил Михаил сидевшей возле него заплаканной женщине с застывшим в глазах отчаянием.
— Но ведь они могут оказаться неразрешимыми…
Михаилу лучше, чем кому-либо другому, было известно, что прихожанка права. Трудности бывают беспросветными, нескончаемыми и непоправимыми. Зачем лгать и вселять пустые надежды? Этого он делать не станет:
— Могут.
— Что же мне делать?
И в первый раз за все время своего «священства» Михаил позволил себе ответить: