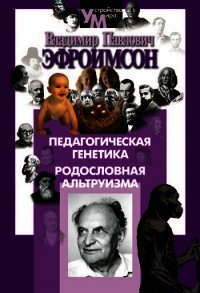Том 3. Педагогическая поэма - Макаренко Антон Семенович (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Сзади хрустнула ветка. Я оглянулся: весь лес, сколько видно, был наполнен колонистами. Они осторожно передвигались в перспективе стволов, только в самых отдаленных просветах перебегали по направлению ко мне.
Я остановился, удивленный. Они тоже замерли на месте и смотрели на меня заостренными глазами, смотрели с каким-то неподвижным, испуганным ожиданием.
— Вы чего здесь? Чего вы за мною рыщите?
Ближайший ко мне Задоров отделился от дерева и грубовато сказал:
— Идемте в колонию.
У меня что-то брыкнуло в сердце.
— А что в колонии случилось?
— Да ничего… Идемте.
— Да говори, черт! Что вы, нанялись сегодня воду варить надо мной?
Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло еще два-три человека, остальные держались в сторонке. Задоров шепотом сказал:
— Мы уйдем, только сделайте для нас одолжение.
— Да что вам нужно?
— Дайте сюда револьвер.
— Револьвер?
Я вдруг догадался, в чем дело, и рассмеялся:
— Ах, револьвер! Извольте. Вот чудаки! Но ведь я же могу повеситься или утопиться в озере.
Задоров вдруг расхохотался на весь лес.
— Да нет, пускай у вас! Нам такое в голову пришло. Вы гуляете? Ну, гуляйте. Хлопцы, назад.
Что же случилось?
Когда я повернул в лес, Сорока влетел в спальню:
— Ой, хлопцы, голубчики ж, ой, скорийше, идить в лес! Антон Семенович стреляться…
Его не дослушали и вырвались из спальни.
Вечером все были невероятно смущены, только Карабанов валял дурака и вертелся между кроватями, как бес. Задоров мило скалил зубы и все почему-то прижимался к цветущему личику Шелапутина. Бурун не отходил от меня и настойчиво-таинственно помалкивал. Опришко занимался истерикой: лежал в комнате у Козыря и ревел в грязную подушку. Сорока, избегая насмешек ребят, где-то скрылся.
Задоров сказал:
— Давайте играть в фанты.
И мы действительно играли в фанты. Бывают же такие гримасы педагогики: сорок достаточно оборванных, в достаточной мере голодных ребят при свете керосиновой лампочки самым веселым образом занимались фантами. Только без поцелуев.
20. О живом и мертвом
Весною нас к стенке прижали вопросы инвентаря. Малыш и Бандитка просто никуда не годились, на них нельзя было работать. Ежедневно с утра в конюшне Калина Иванович произносил контрреволюционные речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и безжалостном отношении к животным:
— Если ты строишь хозяйство, так и дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теорехтически это, конечно, лошадь, а прахтически так она падает, и жалко смотреть, а не то что работать.
Братченко вел прямую линию. Он любил лошадей просто за то, что они живые лошади, и всякая лишняя работа, наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод:
— А вот если бы тебя заставили потягать плуг? Интересно бы послушать, как бы ты запел.
Разговоры Калины Ивановича он понимал как директиву не давать лошадей ни для какой работы. Но мы и требовать не имели охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня, нужно было ранней весной перевести туда двух лошадей для вспашки и посева. Но переводить было нечего.
Как-то в разговоре с Черненко, председателем губернской РКИ, я рассказал о наших затруднениях: с мертвым инвентарем как-то перекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда. Ведь шестьдесят десятин! А не обработаем — что нам запоют селяне?
Черненко задумался и вдруг вскочил с радостью:
— Стой! У меня же здесь имеется хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на время трех, и кормить не нужно будет, а вы месяца через полтора возвратите. Да вот поговори с нашим завхозом.
Завхоз РКИ оказался человеком крутым и хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей: за каждый месяц пять пудов пшеницы и колеса для их экипажа:
— У вас же есть колесная.
— Разве же так можно? Шкуру сдираете? С кого?
— Я заведующий хозяйством, а не добрая барыня. Лошади какие! Я не дал бы ни за что — испортите, загоняете, знаю вас. Я таких лошадей два года собирал — не лошади, а красота!
Впрочем, я мог бы наобещать ему по сто пудов пшеницы и колеса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади.
Завхоз написал договор в двух экземплярах, в котором все было изложено очень подробно и внушительно:
«…именуемая в дальнейшем колонией… каковые колеса будут считаться переданными хозяйственной части губРКИ после приема их специальной комиссией и составления соответствующего акта… За каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной части губРКИ по десять фунтов пшеницы за одну лошадь… А в случае невыполнения колонией настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере пятикратной стоимости убытков…»
На другой день Калина Иванович и Антон с большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили на дороге; вся колония, даже воспитатели, томились в ожидании. Шелапутин с Тоськой выиграли больше всех: они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на коней. Калина Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать, настолько наполнили его существо важность и недоступность. Антон даже головы не повернул в нашу сторону, вообще все живые существа потеряли для него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных сзади к нашему возу. Калина Иванович вылез из гробика, стряхнул солому и сказал Антону:
— Ты ж там смотри, поставить как следует, это тебе не какие-нибудь Бандитки.
Антон, бросив отрывистые распоряжения своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные станки, грозил чересседельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Ивановичу ответил по-приятельски грубовато:
— Упряжь гони, Калина Иванович, это барахло не годится!
Лошади были все вороные, высокие и упитанные. Они принесли с собою старые клички, и это в глазах колонистов сообщало им некоторую родовитость. Звали их: Зверь, Коршун и Мэри.
Впрочем, Зверь скоро разочаровал нас: это был видный жеребец, но для сельскохозяйственной работы не подходил, скоро уставал и задыхался. Зато Коршун и Мэри оказались во всех отношениях удобными коняками: сильными, тихими, красивыми. Надежды Антона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех городских извозчиков, правда, оказались напрасными, но в плуге и в сеялке они были великолепны, и Калина Иванович только кряхтел от удовольствия, докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев.
— Все это хорошо, знаешь, а только с этим РКИ связываться… как-то оно… Что захотят, то и сделают. А жалиться куда пойдешь? В РКИ?
Во второй колонии зашевелилась жизнь. Один из домов был закончен, и в нем поселилось шесть колонистов. Жили они там без воспитателя и без кухарки, запаслись кое-какими продуктами из нашей кладовой и кое-как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На обязанности их лежало: охранять сад и постройки, держать переправу на Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли две лошади и где эмиссаром Братченко сидел Опришко. Сам Антон решил остаться в главной колонии; здесь было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды во вторую колонию, и его посещений побаивались не только конюхи, не только Опришко, но и все колонисты.
На полях второй колонии шла большая работа. Шестьдесят десятин все были засеяны, правда, без особенного агрономического умения и без правильного плана полей, но была там и пшеница озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овес. Несколько десятин было под картофелем и свеклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже шестьдесят колонистов.
Между первой и второй колониями в течение всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение: проходили группы колонистов на работу и с работы, проезжали наши подводы с семенным материалом, фуражом и продуктами для колонистов, проезжали наемные селянские подводы с материалами для постройки, Калина Иванович в стареньком кабриолете, который он где-то выпросил, верхом на Звере проносился Антон, замечательно ловко сидя в седле.