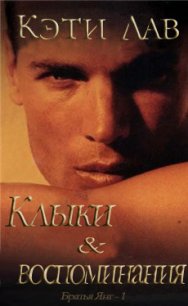Восемь сантиметров: Воспоминания радистки-разведчицы - Мухина Евдокия Афанасьевна (бесплатная библиотека электронных книг .txt) 📗
Глянув на меня мельком, женщина будничным голосом сказала:
— Садись грейся, дочка. Долго ж тебя не было. Хорошо, принесла дрова. Ляночка, видишь, совсем замерзла…
Не заставляя себя упрашивать, скрестив ноги по-восточному, я уселась вблизи костра. На немцев старалась не обращать внимания. Да и они от меня отвернулись — им интересно было следить за движением рук хозяйки.
Я вот написала «хозяйка». А ведь мы были не в доме, а в овечьем загоне. Однако неподалеку от костра стоял комод крестьянской работы, на земле была настлана солома, поверх лежал большой ветхий тулуп…
Женщина что-то месила в чугунке. Разносился запах кукурузного теста с добавкой полыни. Судя по цвету, в тесте было куда больше травы, чем кукурузной муки. Поставив чугунок, хозяйка плеснула в костер воду из ведра. Угли и обгорелые палки зашипели, во все стороны полетели искры. Солдаты повскакали со своих мест, а я и не подумала двинуться. Чуть не рассмеялась. Ну, думаю, фрицы-то сильно пуганые. Женщина разгребла палкой костер, открывая разогретые кирпичные стенки тондыра. Я-то знала — это такая кавказская печка, а немцы выпучили глаза. Они опять уселись и, вытянув шеи, о чем-то болтали. Полынным веником хозяйка обмела стенки очага, намочила в ведре руки, захватив из чугунка желто-зеленый комок теста, трижды перебросила его из ладони в ладонь и со всего размаху швырнула на горячие кирпичи. Быстро слепила второй комок, третий… Немцы вертели головой, не успевая следить за ее руками. Сухопарый фельдфебель, сидевший посредине, залился диким смехом, похожим на ржание заезженного мерина. Два других тоже оскалили зубы. Я не смеялась. Я с упоением вдыхала расширившимися ноздрями аппетитный запах чурека. Через минуту женщина взяла из-за спины короткую лопатку, чтобы сиять испекшиеся лепешки. Только сняла первую и разломила, чтобы дать детям, фельдфебель наставил на нее автомат:
— Давать сюда!
Он схватил половину лепешки, чуть не обжегся и стал перебрасывать с руки на руку. Поднес ко рту. Сморщился, но все же попробовал откусить. Тут же он кинул лепешку в огонь, грубо выругавшись, отобрал у женщины лопатку и побросал все лепешки в огонь.
Дети расплакались, а женщина стояла, беспомощно опустив руки. На лице ее было выражение отчаяния, обиды, покорности. Чтобы не выдать вспыхнувшей во мне ярости, я уткнулась лицом в ладони, как бы тоже плача.
Гитлеровцы еще минуты две, смеясь, переговаривались, потом, как по команде, встали, подняли воротники шинелей, нахлобучили стальные каски и один за другим вышли, плюясь и ругаясь.
Я осталась у костра и, прислушиваясь, как чавкают в глине сапоги солдат, вопросительно смотрела на хозяйку: мне, мол, тоже уходить или можно еще погреться?
…Минуту погодя она приказала мальчику:
— Стань у двери, Аслан. Если фрицы вернутся, стучи ногой. Не кричи, ногой топай!.. Девочка, — сказала мне хозяйка, — ты бы сняла пиджак, пусть высохнет. Молчи, слушай, что скажу. Я Фатимат, тебя как зовут?.. Женя? Хорошо, пусть Женя. Не знаю, откуда ты, по глазам догадалась — ненавидишь оккупантов. Нас из хутора выгнали. Мужа моего, Ильяса, застрелили. Что он им сделал? Скажи, что, что? Он больной лежал, не мог подняться. Фриц по щеке ударил: вставай! Я мужа из госпиталя забрала, понимаешь? Он плохой был, еле дышал, нога ранена, кровь сочится, понимаешь? Говорят: вставай, убирайся отсюда, офицер будет жить. Мой старший сын Ахмед, крепкий мальчик, десятиклассник, оттолкнул фашиста, чтобы не смел трогать отца. Фашист выхватил пушку. Ахмед дал ему ногой по руке, схватил пушку, стал стрелять, но не попал, выбежал из хаты и сразу в горы. Убежал, понимаешь?.. Ахмед убежал, старший мой сын, живой, нет — не знаю. Гитлеровцы вернулись, застрелили Ильяса, кровь текла, мозг вытекал. Я упала. Дети видели, понимаешь? Кричали во весь голос. Мой Аслан, ему девять лет, камень взял… Ножа не было, он камень взял. Фашист смеялся, камень отнял. Я поднялась защищать Асланчика. Он кричит: «Мама, не надо, тебя убьют!»
Уже совсем стемнело, хозяйка захлебывалась в плаче. Теперь я видела — она не старая, а измученная. Она плакала, говорила — руки действовали. Снова достала муки из мешочка, налила воды в чугунок, стала месить.
— Не уходи, ты наша гостья. Сними пиджак, повесь перед огнем, ты наша гостья. Дрова куда несла, откуда взяла? Здесь нет дубков, далеко тащила, да? Где твоя мама, есть мама? Папа живой? Не убили? Сиди-сиди, вижу, голодная, вижу, вся в синяках. Поешь и поспи…
Я ей сказала, что долго не могу сидеть, что в горах, в пещерке, меня ждут.
— Мама и братик голодные, замерзли…
— Сиди-сиди, в пещерке нельзя жечь костер: немцы сразу стреляют из пулеметов. Ты не уходи, эту ночь живи у нас… Э, Асланчик, нет немцев? Закрой дверь, иди сюда!
Под говор матери девочка уснула. Мальчик сел по ту сторону огня, черные его глаза искрились затаенным задором, лоб морщился от дум, губы шевелились, будто без слов повторяли проклятия.
Я поднялась уходить. Мальчик вскочил, встал у двери:
— Не пущу, подари кинжал!
— Откуда у меня, глупенький? — сказала я и потянулась погладить его вихры.
Он отвел мою руку:
— Не трогай! Дай кинжал — подкрадусь, зарежу фашиста. Дай!
Я перед тем только на минуту распахнула куртку, чтобы набраться тепла от костра, — мальчишка успел заметить финку на ремне.
— Дай, дай! Пойду искать Ахмеда. Он в горах, я его отыщу, буду с ним резать гитлеровцев…
Я подумала: может, с его братом встречалась? Тот парень назвался Ахмедом… Вот бы узнать, кем был дядечка, который умер от ран.
Мальчишка вдруг кинулся на меня, хотел выхватить из ножен финку. Мать с трудом его оттащила. Прижавшись к ее животу, он разрыдался. Вместе с ним стала плакать и мать. Проснулась девочка и, услышав, как плачут старшие, присоединилась к ним.
Я вдруг ляпнула:
— Фатимат, я видела вашего сына. Он в барашковой шапке?
Она оттолкнула детей, вскочила:
— Как ты видела? Где? Он живой?.. Слышите, дети, Ахмед живой! Девочка, милая, скажи скорей… может, пойдем, покажешь?
— Живой, живой, он стрелял в фашистов! А кто мог быть с ним русский, пожилой, тяжело раненный?
— Русский? Нет, Ахмед один убежал… Говори как следует, где видела, когда? Бельмо на глазу видела?
— Бельмо! Не помню. Высокий парень, и с ним истекающий кровью пожилой русский…
— Бельмо на глазу не-ет? Ай, жаль! Значит, Ахмед, но другой.
— Другой! — повторила я как эхо.
Фатимат скорбно смотрела, думала.
Тогда я со всеми подробностями рассказала, как умирал русский и как потом Ахмед столкнулся с гитлеровцами и стал стрелять.
— Он пятерых убил! — сказала я, хотя и не была уверена, что это так.
Женщина вскочила:
— Пятерых?! Ты хорошо считала? Пятерых врагов убил Ахмед? Значит, мой сын. Пусть другой Ахмед, все равно мой сын!
Мальчишка закричал во весь голос:
— Пятерых, пятерых, наш Ахмед пять фашистов застрелил! — Он стал хлопать в ладоши и приплясывать: — Наш-наш… пятерых!
Так мы встретили Новый год.
Фатимат не отпустила меня, пока не испеклись новые лепешки. Заставила поесть.
— Что ты говоришь, мало. У меня, смотри, кило муки еще есть. Завтра-послезавтра придут наши.
— Откуда вы знаете?
— Как могу не знать. Вот бумажка, читай.
И она вытащила из какого-то заветного угла такую же листовку, какая была у меня.
Я сказала вдове, что в горной пещерке дожидаются меня мама и братик Петя. Ночь была темная, холодная, мокрая. Вдова недоверчиво слушала. Шепотом на меня накричала:
— Зачем ночью? Дождись утра. Что за такая скверная мать у тебя, не боится пускать одну? Ты фашистов не знаешь, мало их знаешь: жеребенок, ребенок — все равно убивают. Собак всех перестреляли. Ты маме дрова несла? А где отец? Откуда у тебя кинжал в ножнах? Братику сколько лет? Пять лет… Как моей дочке. Видишь, уснул мой мальчик, надежда моя; девочка тоже спит. Сиди слушай — всю жизнь свою расскажу…
Я сказала:
— Мне надо идти. Дрова пусть вам останутся. Понимаете, обязательно н а д о идти…