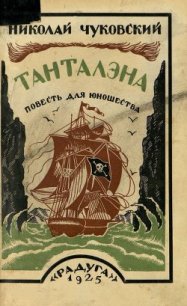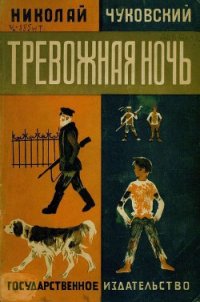Балтийское небо - Чуковский Николай Корнеевич (книги онлайн полностью txt, fb2) 📗
Илья Яковлевич никак не мог попасть ключом в скважину французского замка. Он задыхался и ничего не мог разглядеть. Наконец дверь отворили изнутри, чьи-то теплые руки обняли его и повели по коридору на кухню. Кто это? Катенька? Нет, Катеньки ведь нету, это Сонюшка… Сквозь туман увидел он яркое пламя, бушующее в печурке. Где это Соня всегда достает щепки? Как здесь тепло! Илья Яковлевич разучился чувствовать холод, но чувствовать тепло не разучился. С него снимают шубу, шапку, надевают халат. Не надо, я сам, сам. Его сажают в кресло, и ноги в распоротых валенках он протягивает к огню. Вот теперь можно заснуть. Как хорошо заснуть!..
4
Сидя в землянке перед самой лампой, Кабанков писал статью о Чепелкине, писал долго и старательно, и статья вышла такая большая, что заняла три номера «Боевого листка».
Он летал с Чепелкиным с первого дня войны и никак не мог привыкнуть, что Чепелкина больше нет. Он тосковал по Чепелкину. Сундучок Чепелкина он передвинул себе под койку и заслонил им свой аккордеон. Серов заметил это и перед сном сказал:
— Ты что ж, Игорек, играть больше не будешь?
Кабанков нахмурил свое маленькое лицо.
— Пока не буду, — сказал он резко.
Потом прибавил с угрозой:
— А придет время — поиграю!
Его статью о Чепелкине Уваров, посетивший эскадрилью, отвез в редакцию дивизионной газеты. В дивизионной газете статью сократили вчетверо, но всё-таки поместили, и Кабанков был очень доволен.
Уваров навещал эскадрилью нередко, и Лунин теперь хорошо его знал. Родом москвич, Уваров носил на Балтике прозвище «испанца», потому что был одним из тех советских летчиков, которые добровольцами сражались в Испании за республику. Там, в Испании, он был контужен, и эта контузия лишила его возможности летать на боевых самолетах. Однако «У-2» он до сих пор водил отлично. Перед самой войной он окончил училище, в котором готовили политработников для авиации. Комиссаром дивизии он стал всего за несколько дней до приезда Лунина в Ленинград.
В эскадрилье Уваров появлялся обычно на короткий срок и большей частью ночью. Их аэродром находился сравнительно недалеко от штаба дивизии, вот почему именно здесь обычно стоял тот самолет «У-2», на котором комиссар дивизии облетал все свои части и подразделения, разбросанные на громадном пространстве. Он всегда сам водил этот маленький безоружный самолет и нередко брал с собой еще и пассажира, какого-нибудь инструктора политотдела или штабного работника, которого нужно было забросить либо на южный берег Финского залива, либо в Кронштадт, либо на побережье Ладожского озера. Всякий раз, улетая или прилетая, Уваров проводил час-другой в эскадрилье Рассохина.
Появлялся он внезапно, когда никто его не ждал. Одно его ночное посещение особенно запомнилось Лунину.
Шла уже вторая половина ночи и они крепко спали, когда Уваров вдруг вошел к ним в кубрик. Заметив, что Лунин и Кабанков зашевелились на своих койках, он замахал на них рукой и сказал:
— Спите, спите! Не обращайте на меня внимания. Я у вас посижу немного.
Вероятно, ему нужно было вылетать на рассвете, и он ждал, когда тьма начнет редеть. Хотя в кубрике было жарко, он не снял ни унтов, ни комбинезона, а только стащил с головы шлем и осторожно присел на край пустой койки Чепелкина. Он был очень возбужден. Это было то сухое, тяжелое возбуждение, которое возникает после слишком утомительного дня и не дает уснуть.
Лунин начал дремать, но Кабанкову хотелось побеседовать с комиссаром дивизии. Кабанкову постоянно казалось, что он недостаточно хорошо выполняет свои комиссарские обязанности, и он надеялся, что Уваров разъяснит ему, поможет. Его койка стояла рядом с койкой Чепелкина, и он заговорил вполголоса, и Уваров стал ему вполголоса отвечать. Разговор их тянулся до рассвета. Лунин то просыпался, то опять погружался в дремоту, и лишь случайные отрывки этого разговора доходили до его сознания.
Уваров говорил о самых обыкновенных вещах. Например, о том, что сейчас важнейший вопрос для авиации — защита аэродромов от заносов. Метели не прекращаются, а краснофлотцы, которые чистят аэродромы, валятся с ног от голода. Ведь их кормят не так, как летчиков. Они истощены, обессилены. Лопаты падают из рук, а они день и ночь копают на морозе. Нужно усилить заботу об аэродромщиках, мотористах, оружейниках, техниках, нужно, чтобы они чувствовали, что их работа оценивается так же, как бой.
— Война — это работа, — говорил Уваров. — Я это еще в Испании хорошо понял. И бой — работа. И подвиг — работа…
Лунин заснул и проспал, вероятно, довольно долго. Разбудил его возглас Кабанкова:
— Ну какой я комиссар, Иван Иванович! Не знаю я, что должен делать. А оттого, что не знаю, делаю всё…
— И я сначала не знал, — сказал Уваров. — И тоже стал делать всё…
— А теперь знаете?
— Знаю. Так и нужно — делать всё. Не вообще всё, а для людей всё. Вокруг меня люди, и я должен делать всё, чтобы этим людям было легче и лучше. Краснофлотцы аэродромного батальона потеряли свои простыни при отступлении — я добиваюсь для них новых простынь. Им мало отпускают продуктов — я слежу, чтобы продукты не раскрали, чтобы хорошо готовили. Они растеряли свои семьи — весь мой аппарат работает, помогая им найти родных: это — великая, важнейшая задача. Я смотрю, чтобы в землянках было тепло и сухо. Книги, газеты, бумага, почта — это тоже мое дело. Нас послала сюда партия, которая служит народу, и мы должны служить людям. И главная наша задача — добиться, чтобы всем были ясны наши цели, потому что цели у нас такие, что когда их понимаешь, всё возможно. Нужно пробудить в людях радость, нужно не дать им пасть духом, и я объясняю им, что победа неизбежна…
— А вы это знаете? — спросил Кабанков.
Уваров повернулся и глянул ему в лицо.
— Знаю, — сказал он строго. — Иначе разве я был бы еще жив? А вы разве не знаете?
— И я знаю, — сказал Кабанков.
Уваров на рассвете улетел, и после ночного разговора с ним Кабанков стал спокойнее, увереннее. Но о том, что Чепелкин убит, он не забывал ни на мгновение. По вечерам в землянке Рассохина он, сидя за столом перед лампой, молча чертил пером на листке какие-то завитушки. Всё это были «Юнкерсы», прекрасно изображенные, в разных ракурсах, с проломанными боками, горящие, с перебитыми плоскостями. Их было много, без конца, разбитых и искалеченных, и все они сплетались в причудливые цепи. С этих сплетенных «Юнкерсов» падали гитлеровцы, бесконечно разнообразные, смешные и поганые, с нечеловеческими лицами, искаженными от страха и боли. В этом жутком орнаменте, который он чертил целые часы, выражалась вся его мечта о мести.
В столовой он стал гораздо ласковее к Хильде, на которую раньше иногда покрикивал. Хильда осунулась за последнее время, похудела. Фарфоровые щечки ее поблекли, две складочки появились у уголков губ. Она вся стала тише, мягче и грустнее. И Кабанков, если она несла слишком тяжело нагруженный поднос, вскакивал и снимал с подноса тарелки, чтобы помочь ей. Это очень ее смущало, а он, когда она уходила на кухню, объяснял:
— Она ведь так давно с нами. Она ведь всех знала…
Однажды за обедом Хильда сказала:
— О, как сердце хочет услышать что-нибудь хорошее!
По-русски она говорила вполне правильно, но в каждом слове слышался легкий акцент.
— Услышим! И очень, скоро услышим! — воскликнул Кабанков с жаром.
Он не ошибся. Восьмого декабря по радио сообщили, что наши войска разгромили немцев под Тихвином, освободили город Тихвин и гонят остатки разбитых немецких дивизий по направлению к станции Будогощь. Вот это событие! Немцев разгромили, они бежали, у них отняли захваченный русский город, и случилось это не где-нибудь, а близко, на соседнем, Волховском фронте!
Лица прояснились. Все были убеждены, что это только начало. Все предчувствовали приближение новых событий, радостных и грандиозных.
— Вот другие немцев бьют, а мы тухнем в яме, как силос! — сказал Кабанков. — Опять уже сколько дней не летали!