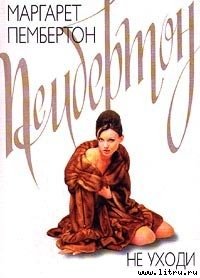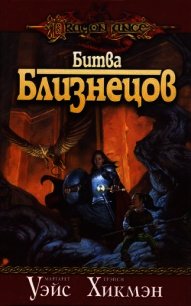Не уходи - Мадзантини Маргарет (бесплатные серии книг TXT, FB2) 📗
— Подумай о себе, право же, подумай о себе… — шепчет она.
Да подумал я уже, подумал, я люблю тебя. И если тебе нужна моя голова, давай сюда топор, и я поднесу тебе голову мужчины, который тебя любит.
— Поехали, поехали отсюда.
И это я говорил не только ей, я, Анджела, говорил это и нашему с ней ребенку. Маленький красный листок бесшумно сел на ветровое стекло машины и там, возле одного из дворников, обосновался. Красный листок с тоненькими прожилками, может быть, самый первый этой осенью, адресованный именно нам.
Я снова сел за руль, и мы поехали подальше от клиники. Остановились в одном из первых поселков сразу за границами города, к северу, там, где пейзаж меняется и становится более диким. Общий ландшафт еще пахнет городом, но чувствуется уже дыхание лесов и гор без вершин, которые вырисовываются на горизонте, словно спящие бизоны.
Мы вошли в кино. Это был один из тех провинциальных зальчиков, которые и работают-то только по субботам и воскресеньям. На первом сеансе публики почти не было, мы сидели в самом центре на деревянной скамье. Холодно было даже и внутри. Италия положила мне голову на плечо.
— Устала?
— Немножко…
— Ну, вот и отдыхай.
Так она и осталась дремать, прижавшись ко мне в полумраке, одна ее щека была слегка освещена отблесками экрана. Нам показывали кинокомедию, немножко тривиальную, действие в ней развивалось благополучно, все шло лучше некуда. Мы с Италией были парой — наверное, в первый раз. Обыкновенной парой, которая на выходные завернула в кино, потом перехватит где-нибудь по бутерброду и покатит развлекаться дальше. Вот-вот, мне было бы так приятно ехать куда-нибудь с Италией, ночевать в гостиницах, любить ее там и ехать дальше. И назад при этом не возвращаться. Мы ведь могли бы поехать и за границу, у меня были друзья в Могадишо; один из них — кардиолог, он работал в психиатрической больнице, жил в домике у моря, по вечерам курил марихуану в компании местной женщины с тонкими ногами и руками. Да, там можно было начать совсем новую жизнь. Бедная больница, темнокожие босые мальчуганы с блестящими, как угольки, глазами. Поехать туда, где во мне будут нуждаться, оперировать под брезентовым навесом, помогать недужным и неимущим…
— Ты бы уехала со мной куда-нибудь подальше?
— Уехала.
— А куда бы тебе хотелось поехать?
— Куда ты захочешь.
Твоя мать готовится к отъезду, у нее рабочая поездка на пару дней, для меня это глоток свежего воздуха. Она укладывает вещи в чемодан; этот пятнистый чемодан из замши был с нею в нашем свадебном путешествии. Она задевает меня рукой, разыскивая шейный платок в многостворчатом шкафу, занимающем целую стену. На ней брючный костюм с воротником шалью, из мягкого джерси цвета мускатного ореха, и простое ожерелье из крупных янтарных бусин, нанизанных на черную нить. Я беру из шкафа рубашку, у меня там только белые рубашки и костюмы с галстуками, обкрученными вокруг соответствующих плечиков, чтобы не ошибиться. Эльза иногда меня подначивала, ей хотелось, чтобы я обзавелся хотя бы шляпой. У нее есть приятель, литератор из Берлина, он щеголяет то в беретах, то в картузах тыковкой, то в панамах, то в треуголках — ему они идут, он эксцентричен, он бисексуал, он умнейший человек. Этот берлинский литератор наверняка сделал бы ее куда счастливее. Они небось встречаются в каком-нибудь литературном кафе, он кладет свое сомбреро или ушанку на стул, читает ей свои творения, она приходит в восторг. Дело ясное, она вполне созрела и достаточно обуржуазилась, чтобы завести себе любовника-бисексуала. Иметь рядом с собою столь элегантную женщину — раньше это всегда наполняло меня гордостью. Только вот теперь от ее элегантности мне становится грустно.
Сейчас она в очередной раз преобразилась: сегодня Эльза — путешествующая журналистка, милая и женственная. Но мне даже ее жесты в тягость — при мне она пока что деловита и даже чуточку груба. Она уже достаточно вошла в роль, но эту роль она будет играть на выезде, в окружении своих назойливых коллег. Я надеваю брюки, те, у которых пояс уже вдет в штрипки: так я избегну лишних усилий. Сейчас я ей скажу. Самое время, почему бы и нет, вот сейчас и скажу… Пусть она уедет и подумает и вернется, уже все обмозговав. Итак, я скажу: я люблю другую женщину, и эта женщина ждет ребенка, и поэтому мы с тобою должны расстаться. У меня вовсе нет намерения ее морочить, сказав, что мне хочется пожить одному, или еще какую-нибудь дичь. Я не хочу жить один, я хочу жить с Италией, и, не встреть я Италию, я, пожалуй, не смог бы наскрести ни одного довода в пользу развода с Эльзой. Мне не в чем Эльзу упрекнуть, вернее, я могу упрекнуть ее слишком во многом. Я больше не люблю ее, а может, никогда и не любил, просто ей в свое время пришло в голову меня соблазнить. Я выносил ее тиранию, иногда ею восторгался, иногда ее побаивался, а в конце концов устал, подчинился и махнул на все рукой. Стоит мне сейчас посмотреть на нее внимательно — она ведь ничего не замечает, ей нужно аккуратненько уложить в несессер все свои косметические тюбики и пузырьки, — стоит мне сейчас посмотреть — вон какой у нее пристальный и ничего не выражающий взгляд, она даже и челюсть оттопырила, — стоит мне посмотреть, и я думаю: что эта женщина здесь делает? Какое она имеет ко мне отношение? Почему не живет она вон в том доме напротив, с тем дядькой, который иногда ходит по своей комнате в трусах? Он, правда, несколько пузатый, но чернявый и вполне сексуальный. Почему бы не перейти ей через улицу, не войти в противоположный подъезд и не начать укладывать свой несессер на кровати у этого дядьки? Как было бы хорошо, очутись она сейчас там, с этим ее лицом, лишенным всякого выражения. А я бы забрал себе ту малышку, ту рыженькую, что мелькает рядом с чернявым и пузатеньким дядькой. Пожалуй, она вполне симпатичная… пожалуй, с ней можно поговорить… пожалуй, ей приятно будет иногда послушать, о чем думает человек, который целыми днями потрошит других людей. Я смотрю на свою жену: в ней нет ничего, что могло бы мне понравиться, ничего, что было бы мне интересно. У нее очень красивые волосы, это верно, но, на мой вкус, их слишком много. У нее красивая грудь, полная, но не чересчур, однако у меня нет никакого желания положить на нее ладонь. Она надевает сережки, такси она уже вызвала. Я оставлю ей все, я ничего не попрошу для себя, я не стану делить даже книги, побросаю что придется в чемодан — и уйду. Пока!
— Пока, я поехала.
— Так куда ты летишь?
— В Лион, я же сказала.
— Послушай… черкни мне открытку.
— Открытку?
— Ну да, мне будет приятно. Пока.
Эльза смеется, берет чемодан и выходит из комнаты.
Интересно, а какой же член у этого берлинского литератора? Дряблый, как ночной колпак, — или твердый, как козырек у кепи?
Я принялся целовать пупок Италии. Пупок был морщинистый и втянутый. Этот маленький узелок плоти властно меня притягивал. Когда-то именно через него неродившаяся еще Италия была связана с большой жизнью. И сейчас мне казалось, что я могу пройти через него, могу губами распечатать эту мягкую дверь, просунуть туда голову, потом одно плечо, потом другое и забраться целиком. Да, мне хотелось поместиться в ее живот, скорчиться там и стать серым, как кролик. Я закрыл глаза, сосредоточился на вкусе собственной слюны. Ощутил себя крохотным ребенком, плавающим в околоплодных водах. Помоги мне родиться, помоги мне родиться, любовь моя. Я буду гораздо лучше присматривать за собой, я постараюсь любить тебя, не причиняя тебе вреда.
Я открыл глаза, посмотрел на то немногое, что было вокруг, — на лакированный комод, на коврик с выцветшими полосками, на серый пилон виадука. А потом и на фотографию мужчины, прислоненную к зеркалу.
— Кто это?
— Мой отец.
— Он жив?
— Я его уже сто лет не видела.
— Как это так?
— Он был человеком, не созданным для семьи.