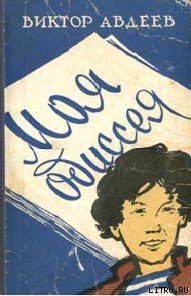Лицеисты - Московкин Виктор Флегонтович (читать книги онлайн без .txt) 📗
У ворот ипподрома толпа бурлила, не думала расходиться. Грудились возле мастерового с серым без кровинки лицом. Мастеровой хлопал себя по ляжкам, скалил зубы:
— Любитель он, наш-то, на лошадях гоняться. Да что там, каждый в городе знает вахрамеевского Сапфира. Не то чтобы раз или два призы брал — никогда его не обгоняли. А тут этот мужичонко, соплей перешибешь… Наш-то, понятно, разозлился: лошадей и пристрелил вгорячах. Тыщу рублей дал угольщику и велел убираться, покудова цел. А тот ему говорит: «Зря, барин, коней сгубил, тебе, Вахрамееву, со мной не тягаться…»
Мастеровой оглядел собравшихся и, довольный тем, что знает больше, чем остальные, весело продолжал:
— И открывается он тут, кто, значит, такой… Вот как было. Будто бы угольщик вовсе не угольщик, а наездник питерский. Все его знают. Упал он летось на скачках, с тех пор и перебрался в деревню, ногу вывихнутую лечил. Заодно углем торговал. С Сенной ехал, не стерпел… У нашего-то челюсть отвисла, когда услыхал, с кем гоняться пришлось. Сразу же ему предложение делает: так, мол, и так, иди ко мне на службу, озолочу. Будешь моей конюшней ведать. Полную волю обещал, лишь бы только лошади хорошие в конюшне были. «Нет, не пойду, — говорит тот, ссориться будем: лошадей ты не любишь, барин». Взял он свою тыщу из его рук, лошадь убитую в губы поцеловал и похромал с поля.
Толпа слушала, мастеровой распалялся пуще, даже жарко стало — расстегнул верхние пуговицы пальто.
— Теперь наш-то опомнился, волосы на себе рвет. Сапфира ой как жалеет, больно хорош рысак был. Велел шкуру содрать и опилками набить. «Чтобы как живой был, — наказывает, — на заводском дворе против окон конторы поставлю»…
Селиверстов выбрался из толпы к дороге, где его ждали. Студент совсем закоченел, но был оживлен, спорил с Варей о какой-то актерке Беленской, которая недавно появилась в городском театре и покорила публику. Федор прислушивался к ним и скучал. Когда подошел Селиверстов, разговор оборвался. Сначала все шли молча.
— Это какой Вахрамеев? — спросил Селиверстов. — Здесь их несколько. Не городской ли голова?
— Другой, — ответил Федор. — У этого свинцово-белильный завод недалеко от Федоровской церкви. Каторгой зовут. Идут туда, кому уж больше ничего не остается.
— Лихач, видать. Не удалось по правилу, решил другим взять. Все равно весь город станет говорить о нем. Ему только того и надо. Герой!
Пригляделся к Варе, заметил ласково:
— Свет-матушка Варвара Флегонтовна что-то взгрустнула.
Варя в самом деле чувствовала себя неважно. Хоть и храбрилась, говоря, что ее мало трогает, как о ней думают будущие родственники, но осадок от неприятной встречи остался.
— Когда вы успели познакомиться? — удивляясь, спросил Федор.
— Ого, брат, — засмеялся Селиверстов. — Пришлось… — Подхватил Федора под руку, сообщил негромко: — От Вари я наслышан о том, что делается на фабрике. Кружки — хорошо, молодцы, но сейчас этого, Федор, мало. Надо устанавливать связи…
— Было бы с кем, — отчужденно заметил Федор.
— Есть с кем, не одна ваша фабрика в городе… Знаю, что ты непочтителен к лицеистам и все-таки прихватил с собой Мироныча. Если мне сколько-нибудь веришь, ему можешь верить вдвойне. Парень стоит того. Через него и связи у тебя будут…
Федор покосился на студента. Тот поймал взгляд, бесхитростно улыбнулся.
— Ладно, — удовлетворенно сказал Федор, — подружимся. Сам, надеюсь, заглянешь к нам.
— Рад бы, да не придется. Здесь я проездом. День, два задержусь — и дальше. Сейчас заглянем к Марье Ивановне, там поговорим обо всем. Кстати, у нас припасено для тебя кое-что. В обиде не будешь.
От Широкой — людного базара фабричной слободки — под уклон к Которосли тянется Тулупова улица. Возле базара дома двухэтажные, с каменным низом, с богатыми крылечками. В одном из них, угловом, трактир Ивлева. Ближе к реке избы покосившиеся — слепые оконца, сгнившие тесовые крыши, обросшие мягкой зеленью мха, покривившиеся заборы. Весной и осенью перед домами непролазная грязь, зимой сугробы в человеческий рост.
На этой улице и поселился Федор Крутов с сыном Артемом, сняв у домовладелицы Птицыной комнатку в нижнем этаже.
Комната махонькая, с низко нависшим закопченным потолком, одно окно в толстой стене. Много места занимает печь. Между печью и окном стоит кровать, с другой стороны небольшой стол, тут же у стены плетеный короб для белья. Столкнись вдвоем в проходе — не разойдешься, так он узок.
Василий Дерин сел на табуретку у стола. Был он в серой косоворотке, засаленной у локтей, пушинки хлопка прилипли к волосам — пришел прямо из фабрики.
— Не густо живешь, — сказал Дерин, оглядываясь.
Федор обернулся к нему, усмешка затаилась в глазах. Стоял он у кровати, собирал Артемкины тетради и складывал на подоконнике. Сына не было.
— Похуже, конечно, чем Ротшильд. Однако не жалуюсь: вход отдельный, стены глухие, сам себе хозяин, не в каморках. Может, у тебя лучше?
— У меня хуже, — признался Василий, — но и здесь не мед. Скажи-ка, кто это Ротшильд?
— Заморский банкир. — Федор достал из-под стола стеклянную банку с огурцами, стал выкладывать в блюдо. — Раз, наверно, в пятьдесят богаче нашего Карзинкина.
— Ого! Значит, верно — живешь чуть похуже. Вроде моего отца. Мать-то, помню, на кухне, а он с мужиками в коридоре разговоры ведет. Спрашивает она его: «Яйцо-то все в суп опускать или половину?» Батя разгладит бороду, приосанится и орет: «Опускай все!» Пусть, дескать, люди видят, как широко живем.
Вошел Евлампий Колесников. Не в пример Дерину, он мал, узкогруд. Черные глаза беспокойно блестят. Сел на кровать и сразу потянулся к тетрадям на подоконнике, осторожно полистал, полюбовался крупным почерком.
— Сынок-то у тебя грамотный теперь. Чай, и письма писать может?
— Что ж не писать, буквы знает.
— А я давно собираюсь тетке письмецо направить. Читать могу, а чтоб самому писать — того нет, не выучен. Скажи ему, чтобы помог.
— На всякий случай — неровен час, зайдет кто, — Федор приготовил закуску, выставил бутылку водки: кому до того, что мастеровые собрались после смены выпить.
— Подосенов не придет, хворает, — сообщил Евлампий.
— Слышал. — Из щели между стеной и печью Федор вытащил пачку листовок, завернутых в тряпицу. Отдал поровну Василию и Евлампию. Сказал: — Здесь обращаются ко всем рабочим города, поэтому, если из рук в руки будете передавать, добавляйте на словах.
— Мало, — сказал Дерин, взвешивая на ладони свою долю. — Разбросать бы не только по каморкам, а и в фабрике.
— Будут еще. Марья Ивановна обещала дать сколько нужно.
— Какая из себя Марья Ивановна? — заинтересовался Евлампий.
— Не поверишь: щуплая, смотреть не на что. Одни глаза — крупные, яркие. И одета просто: будто фабричная бабочка. Но, видать, умна. Каждое слово ухом принимаешь.
— Ухом — не сердцем, влетит и вылетит.
— Сказал не так, чего придираешься?
— Ну вот и обиды, — усмехнулся Евлампий, тщательно упрятывая за пазуху листовки. — Скажи-ка, верно — сестрица нашего директора социалистка?
— Этого я не знаю, — резко ответил Федор. Пренебрежительный тон Евлампия задел за живое. — Одно известно, что и ты, и Василий… все мы обязаны ей. Не вмешайся она, кто принял бы нас на фабрику?
— Да я же спроста, — смутился Евлампий, не догадываясь, почему Федор вскинулся на него. — Я к Варваре Флегонтовне всей душой. К тому говорю: чудны дела твои, господи. Братец фабриканту прислуживает, готов из кожи лезть, сестра против того же фабриканта, а значит, и против своего брата…
— Ну и дай ей бог здоровья, — примирительно сказал Дерин.
— Я вот еще о чем думаю, — не унимался Евлампий. — Почему Андрюха Фомичев выпущен из тюрьмы раньше нас, а теперь его старшим рабочим поставили? Иван Митрохин как-то жалобился: «Все навыворот стало. Раньше-то как ты ни бейся, а если бороды не отрастил, не быть старшим. Нынче молокососов за темные заслуги отличают». Это он об Андрюхе Фомичеве, о его будто бы темных заслугах. Вот и скажи, кому Андрюха обязан?