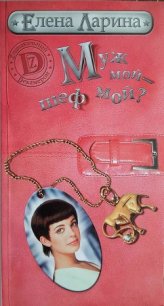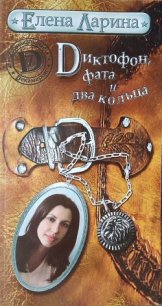Магия, любовь и виолончель или История Ангелины Май, родившейся под знаком Рыб - Ларина Елена (книги бесплатно без регистрации полные .txt) 📗
– Что именно начиналось? – переспросил он, нахмурив темные брови и действительно силясь меня понять.
– Как вы стали виолончелистом? – сказала я, ужасаясь тупости вопроса.
Он шумно вздохнул, глядя в полированную крышку рояля, и сказал:
– Начал заниматься… – пожал он плечами. – Но виолончелистом я не стал. То есть я бываю им. Иногда. Когда беру в руки инструмент. Но потом перестаю быть. Становлюсь кем-то другим.
– Кем?
– В зависимости от того, что я делаю. Читаю – читателем, пишу – писателем. Пельмени варю – кухаркой. И так далее.
– А кто вы сейчас? – спросила я с интересом.
– Я вот как раз сейчас пытаюсь это понять, – он усмехнулся и оторвал свой взгляд от манящей черноты рояля. Какого цвета его глаза, мне рассмотреть не удалось. Заметила только, что темные.
– Какая музыка вам ближе? – попыталась я заговорить на тему, которая должна была быть ему интересна.
– Мне ближе то, что дальше, – кратко ответил он. Но потом, видимо, и сам почувствовал, что это сильно смахивает на хамство, и поспешно добавил. – Я имею в виду, что мне интересно то, чего я раньше не делал. Чем сложнее задача, тем интереснее. Я готовил для этого конкурса сложную программу. Шнитке. Шостакович. То, чего раньше избегал. Теперь дорос. Но пока, видимо, не судьба.
– Что у вас с рукой? – проникновенно спросила я. И мне показалось, что вопрос мой торчит из беседы, как сучок из доски.
– Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. – По-моему, он надо мной открыто издевался. Даже голову набок склонил, наблюдая за выражением моего лица.
– Я серьезно… – вздохнула я и опустила глаза. Ну посмотри на меня. Разве можно такую обижать?
– В драку ввязался, – нехотя сказал он.
– Ну как же можно! Вам ведь надо руки беречь! – участливо пролепетала я.
– Голову мне тоже надо беречь, – резонно заметил он.
– А на вас что, напали? – Я попыталась сделать самое наивно-восторженное выражение лица, на которое была способна.
– Да нет, ну что вы… – он позволил себе рассмеяться. – Я всегда нападаю первым.
И я неожиданно увидела в нем за синеватой небритостью и мрачной невозмутимостью того самого юношу, которого питают надежды.
– Вы совершенно не похожи на музыканта, -сказала я, смутно отдавая себе отчет в том, что это, кажется, не мое собачье дело – на кого он похож.
– Вы, между прочим, тоже совершенно не похожи на журналистку, – он рассматривал меня с серьезными претензиями во взгляде.
– Да? Интересно, почему? – кокетливо засмеялась я, пытаясь скрыть за смехом панику.
– Потому что вы забыли включить диктофон, – сказал он, продолжая разглядывать меня уже с некоторым любопытством.
– Да что вы… – фыркнула я смущенно и стала вертеть в руках незнакомый аппарат. Что-то непонятно, где тут что. Чувствуя, что краснею, я пробормотала с жалким девичьим смешком: – А как его включать?
– Очень просто, – ответил он, подошел поближе и слегка притопил левой рукой клавишу с треугольничком. И взглянул на меня, видимо, пытаясь установить степень моей вменяемости. Зато я увидела, что глаза у него многоцветные – темно-серые со сложной арабской вязью. А вокруг зрачка всполохи рыжего огня. – Времени у вас осталось мало. Давайте, по возможности, поскорее.
Времени у меня осталось мало. А что я узнала у него? Да почти ничего. Правду он мне не сказал. Напали? Что-то непонятно. Да нет, не напали. Он нападает первым. О чем это он… Имею я хоть какое-то отношение к его травме или нет? Или все-таки это дело рук Антона? Как я могу это выяснить? Надо во что бы то ни стало вытянуть его на беседу. С протокольными вопросами ясно. Ему неинтересно.
– Знаете, Володя, – с некоторым трудом произнесла я. Мне всегда сложно впервые называть человека по имени. – Я скажу вам честно. Я шла к вам на интервью и думала, что по большому счету никому не интересно, сколько часов в день музыкант занимается и какие у него творческие планы. Но журналисты только об этом и спрашивают. А мне интересно другое – почему одно и то же все играют по-разному? Это потому, что каждый по-своему воспринимает мир. А мне вот интересно, как мир воспринимаете вы. Что с вами происходит, когда вы играете? О чем вы думаете? Мне бы очень хотелось отступить от схемы. Задать вам вопросы, которые обычно не задают серьезным людям.
– Вы что, думаете, я серьезный человек? -скептически спросил он, совершенно не заражаясь моим энтузиазмом. – И потом, это вряд ли кому-то интересно. Я тут слышал недавно… Известный дирижер говорил о Вивальди. Ну, музыка всем известная, красоты необыкновенной. И он здорово дирижировал. Правда. Так оказывается, думает он при этом, что ноябрь печальный – потому что у крестьян тяжелое похмелье. А быстрая тема июля, знаете, там тим-тим, там тим-тим, там… – и он точно напел мелодию, которую я прекрасно знала. – Это мухи летают. Вы уверены, что кому-то надо знать, что думает о музыке музыкант? Я – не уверен.
У него был ужасно интересный голос. Такой же двуцветный, как глаза. На низких частотах он на долю секунды пропадал. И временами звучал как-то глухо. Как будто бы хозяин накануне сорвал его на морозе.
– Музыка чаще всего говорит о любви, – я не знала, спрашиваю я или отвечаю.
– Возможно, – сдержанно кивнул он.
– В двух словах: что такое любовь?
– В двух словах – это ответственность, – он нахмурился и нетерпеливо подался вперед. Пальцы сложенных домиком рук соединились. Получился пульсирующий шар. Он то уменьшался, то увеличивался, как бьющееся сердце. Потом он поморщился от боли в руке и шар исчез.
– За что вы любите женщин?
– А с чего вы взяли, что я их люблю? – он пожал плечами. И, взглянув на меня с неодобрением, добавил: – И потом, мне казалось, что «Невское время» пока еще не стало «желтой» прессой.
Со своими длинными волосами и шокирующей небритостью, в этот момент он больше всего был похож на раненого испанского революционера, захваченного в плен. Море собственного достоинства, печать страдания и полный отказ от диалога.
– «Желтой» прессу делают ответы, а не вопросы, – сымпровизировала я. Закона такого на свете не существовало.
– Значит, вопросы каждый понимает в меру своей испорченности. Мои ответы на них вашему изданию точно не подойдут. Не стоит и проверять.
Терять мне уже было нечего. Интервью явно не заладилось. Туманский не был расположен к беседе. И все мои надежды его разговорить, можно было хоронить заживо. Пытаться прикидываться журналисткой и задавать правильные вопросы смысла уже не имело. Без прежнего энтузиазма я сказала, пытаясь оправдать свой наивный вопрос.
– Было бы странно не спросить вас о женщинах… Они составляют восемьдесят процентов аудитории в филармонических залах! А как вы думаете, почему? Может, потому что они тоньше чувствуют?
– Только хорошие музыканты все сплошь мужчины… – проговорил он, глядя на свои руки. – Вот ведь парадокс…
– Ну вот, – я воспряла духом. – Значит, вы играете для женщин…
– Я играю не для женщин, – перебил он меня и совершенно убежденно сказал: – Я играю для себя! Может, я просто эгоист… Мне все равно, кто там сидит в зале… Собаки, между нами, тоже неплохо слушают. И потом, – он поскреб подбородок, – честно говоря, было бы немного странно, если бы женщин я любил за то, что они хорошо слушают. Вам так не кажется? Тогда врач должен любить женщин за то, что они часто болеют. А вы, наверное, должны любить мужчин за то, что они дают вам интервью. Логично?
– Это не логика. Это софистика, – возразила я.
– Ну а за что же вы любите мужчин? – обреченно вздохнув, спросил он.
– Мужчинам я симпатизирую слепо. Как выпрыгивающим из воды дельфинам, – медленно ответила я.
– Спасибо, конечно…– он посмотрел на меня слегка обалдело. – Но, по-моему, вы нас идеализируете…
– Вас я не идеализирую, – заверила я его, потому что в этот момент совершенно осознанно поняла, что идеализирую. И чем дальше, тем больше. Рамки моего липового профессионализма трещали по швам.
– Знаете, – он усмехнулся, – а, по-моему, вы любите мужчин так же, как депутаты любят народ. А еще говорят, что женщины склонны к моногамии. Может быть, жизнь их уже исправила?