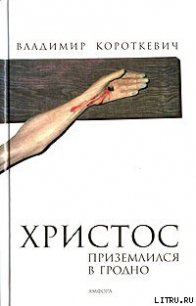Колосья под серпом твоим - Короткевич Владимир Семенович (читать книги полностью .TXT) 📗
— Молчи, Гринь, — сказала Марта. — Ты что, забыл, что он раненый, что его сердить нельзя?
— А ты тоже молчи, — ответил Гринь. — Давай вот лучше перевязывай.
Марта разворачивала белые тряпки на груди Корчака. Раненый почувствовал, как изболевшее тело отвечает мелкой дрожью на толчки боли: Марта отдирала полотно от раны.
— Тц-тц-тц, — почмокал Покивач.
— Дрянно? — спросил Корчак, не открывая глаз.
— Лучше, — Сказал мельник, — но еще не совсем хорошо.
Его грубые руки достали откуда-то горсть сероватой с прозеленью вязкой массы и начали накладывать на рану. Корчак ощутил приятный холодок.
— Поблагодари своего бога: три недели не пекли… Лето, праснаками обходимся, — сказала Марта. — Это плесень, которая в квашне на опаре вырастает, если не пекут хлеб.
— Знаю, — сказал Корчак. — Снимаешь верхний слой, а внизу хорошая.
— Ну вот, — сказала Марта. — Если есть божья воля, поправишься.
Запах опары возвратил Корчака к воспоминаниям о доме, жене и детях. Потом он вспомнил хату и покойницу мать. Мать собиралась сажать в печь хлебы. «Иди сюда, сынок», — говорила она. Он подходил. Руки матери были оголены выше локтей. «Нагнись», — говорила мать. И потом ее рука с сильным «чвяканьем» резко входила во вздувшееся грибом тесто. Мать вырывала руку, и он, малыш, припадал носом к углублению в тесте, а оттуда — лишь на мгновение — шибало кислым и резким, аж в глаза кололо и голова шла кругом, неимоверно сытным и добрым духом. И это был самый приятный запах, домовитый, как печь, как родная хата, и приятнее любого запаха на земле — не нанюхался б и за всю жизнь. Потому что это был хлеб.
С приятной дрожью (это отходила боль) Корчак подумал, что теперь он, может, и не умрет…
…Потому что это был хлеб, а он верил хлебу. В хлеб можно было верить. В хлеб нужно верить. От хлеба жизнь и от хлеба сила. От хлеба не может не быть силы. Он несет человека, и человек живет ради него, помогает ему стать хлебом, а тот за это отдает человеку самого себя.
И это за хлеб лилась в Пивощах мужицкая кровь.
Он как-то сразу и окончательно понял, что теперь ему никогда не есть хлеба, который подходил в родной квашне. Не есть ни в материнской хате, ни в своей. Мать умерла, ее никогда уже не увидеть. А в своей…
— Гринь, — спросил он, — что в Пивощах?
Покивачу стало веселее: парень интересовался чем-то, — значит, будет жить.
— В Пивощах зажывощи, [55] — сказал он. — Еще сильнее скрутили мужика. Правда, никого не взяли, вице-губернатор защитил. Кое-кого отхлестали за суслоны, вот и все.
— Почему так… обошлось?
— Кроера сам губернатор Гамалея позвал в Могилев. Дали, видимо, «прочухана», потому что возвратился злой, как собака. Его кучеру губернаторский лакей говорил за куревом, что на пана Константина кричали… Сам кричал… Мол, с самого начала надо было говорить, что за сгон платить не можете… Злой приехал Кроер… Запоете вы теперь, пивощинцы…
Покивач замолчал.
— Что обо мне… говорят?
— О тебе?… Гм… Твои дела, брат, дрянь… Одному тебе придется расхлебывать кашу за всех. Я же говорю, что вы не руя, [56] а стадо. Ты сбежал, может, даже убит, тебя нет — твой и ответ. И татары показали, что ты вилы метнул, что с тебя началось… Да и ты заядлый — кричал, чтоб не убегали.
Да, он знал это и сам. Он бросил вилы, но он не хотел попасть. Какой же это ловкий мужик не попадает, если захочет? Однако оправдываться нет смысла. Не поверят. Не захотят поверить. Потому что они никогда не нюхали квашни, а значит, в их жилах текла иная кровь. Где крови ни ложки, там правды ни крошки… Мать, когда была молодой, иногда тихонько пела вечерами на завалинке. Луна, такая полная, выплывала над садом, и она пела:
Ой, за-а лесам, за прале-сам
З'а-л'-т'ая дз'я-а-ажа…
Потом она уже не пела… И кто б еще сказал про луну «золотая квашня»? Те не могли. Волки, которые стреляли. А с волками — по-волчьи… А значит, никогда ему уже не доведется жить возле своей квашни.
— Ты не того, — словно оправдываясь, сказал Гринь Покивач, — ты не бойся. Никто не выдаст… Вылечим… Поживешь да и пойдешь в скиты, на Ветку… Там беглых много. Староверы не выдадут, потому как считают, что власть от дьявола. Переправят еще дальше… аж на Керженец… Так вот испокон веку и таскаются люди: наши — туда, ихние — к нам.
Корчак молчал долго.
— Нет, — сказал он наконец, — я не пойду… Тут моя земля… мой хлеб… Я не должен оставлять его.
— Смотри, — сказал Гринь. — Можешь и здесь, пока не дознались.
Они молчали. Один посасывал дымящуюся трубку. Второй лежал с закрытыми глазами и думал. И вдруг темнота под его опущенными веками вспыхнула горячим золотисто-красным светом, и он догадался: кто-то открыл дверь в омшаник. Он осознал это, но глаз не раскрыл. Все равно он пока не может защититься, и если это пришли за ним, он не будет смотреть на них. Пускай берут такого, как есть. Он так и умрет с закрытыми глазами.
…А Грить обернулся и увидел в дверях Михала Когута, а за его спиной лица Кондрата и Андрея. Все смотрели на распростертое тело. Только Михал смотрел мрачно, а близнецы удивленно.
Гринь поднялся навстречу, почти вытолкнул их и закрыл за собой дверь. Он был зол на себя: ворон ловил, старая макитра, а плеск воды на мельнице приглушил стук колес завозников.
— Ну? — мрачно спросил Гринь.
— В нашей завозно, — сказал Михал. — Так мы к тебе.
— Идем.
Все время, пока длился помол, завозники и мельник не обмолвились ни словом. Молча таскали мешки, молча засы?пали, молча пускали воду.
Усилившийся шум воды долетел и в омшаник и успокоил Корчака: значит, не за ним.
А люди у мельницы не смотрели друг на друга. Да и что было Когутам до мельника? Мельник как мельник. Куда интереснее была древняя мельница, узенькая лента единственной дорожки, которая вела к ней и по которой они приехали, крохотное озерцо с лилиями и дремучие лесные дебри вокруг него.
Прудок такой интересный, ровнехонький. Стреха мельницы зеленая от мха. И лоток весь бархатно-зеленый. И стеклышки зеленые. А стволы боровых деревьев совсем медные, потому что солнце заходит. Совсем медные, словно тысячи огромных змей-медянок встали на хвосты. А над озерцом толчет мак мошкара, тоже совсем золотая на солнце. Вот и смотри себе, человече. И ничего ты не видел, и ничего не слышал… Ешь борщ с грибами, а язык держи за зубами. Кто молча, у того дума не волчья… М-да… Вот оно, значит, как, знаете ли…
И только когда Михал отсыпал Покивачу положенные гарнцы, а дети отошли от телеги, мельник тихо спросил у Когута:
— Видел?
— Не видел, — мрачно ответил Михал. — И дети не видели.
Диковатые светло-синие и янтарные, как у коршуна, глаза встретились на миг и снова разошлись. Но Покивачу этого было мало. Ему надо было знать, правильно ли сделал он, Покивач.
— А если б у кого другого увидел?
— И ухвалял бы, и не ухвалял, — с крестьянской хитростью сказал Когут. — Я, брат, никогда никому ничего такого…
— Ну, а если что такое?
— Ну, а если что такое, так что ж тут такое, оно уже…
— Ну, а если что такое? — настаивал Покивач.
— Так оно ведь, как говорится, и у других не видел, и у тебя. Я человек смирный. Да и отец мой, а их дед тоже не лишь бы что, и всем, конечно, можно, если уже так, и сказать. Вот оно, как говорится, и так.
— Донесешь? — начистоту спросил Покивач. — Дети не донесут, они простые души. А ты?
Михал поглядел прямо в глаза Покивачу.
— Нет, — сказал он. — Не донесу.
Когда завозники уехали, мельник, немного успокоенный, пошел к омшанику. Перед дверью остановился, думая о том, что надо будет все же перенести раненого в шалаш возле бортного урочища. И не потому, что Когут донесет. Зная деда Данилу, этого можно было не опасаться. Просто подальше от греха. А вдруг кто-нибудь еще наткнется. Разные бывают люди. Придет, когда тебя нет, и давай шнырять…