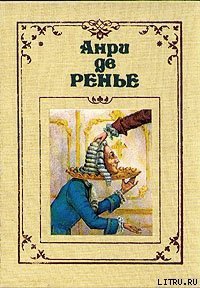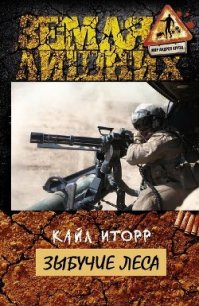Грешница - де Ренье Анри (е книги TXT) 📗
Как ни была взволнована мадам де Сегиран, она все же не утратила способности рассуждать, и ее рассуждения приводили ее иной раз к выводам, которые, если она на них и не задерживалась, тем не менее занимали ее некоторое время. Не являлось ли наилучшим средством рассеять этот мучивший ее самообман – сравнить его с действительностью? Разве надежда вновь обрести телесный мир не стоила того, чтобы позволить плоти испытать то, чего она желает? Как знать, не таит ли грех собственную смерть в своем свершении, подобно тому как нарыв разрешается от гноя, если разрушить его оболочку? Не есть ли всякое искушение не более чем туман, чьи призраки не могут противостоять устремленному на них взгляду, и что от них остается, если их увидеть в их облачной тщете?
Но на этом пути мадам де Сегиран сразу останавливали ее искреннее благочестие и искренний страх божий, а если бы она их и превозмогла, она все равно не могла бы признать себя вправе, ради личной выгоду вовлечь во грех того, кого она избрала бы орудием, которым положила бы конец своим терзаниям и уяснила бы себе их сущность. Делясь своим грехом, она бы его удвоила, ибо, если она и могла бы покаяться в своей вине и искупить ее, у нее не могло быть никакой уверенности, что ощутит раскаяние в своей вине тот, кто впадет в нее вместе с ней. Таким образом, человек, которого бы она сжимала в своих объятиях и который, быть может, показал бы ей тщету ее самообмана, был бы ею малодушно обречен на вечное осуждение, и она ввергла бы в гибель его одного, разве лишь он увлек бы и ее за собой. И этот образ был так жив и так ярок, что мадам де Сегиран содрогалась от ужаса, ибо от ее гугенотской юности в ней сохранились библейские видения, воскресавшие в ней пламенеющими анафемами. То ей чудилось, что она катится в бездну, обнявшись с соучастником своего греха; то, стоя над пропастью, она видела его окруженным огненными языками, обагрявшими своим отсветом ее щеки, горящие сквозь их бледность и худеющие с каждым днем.
Со времени женитьбы своего брата на мадмуазель д'Амбинье или, точнее, со времени смерти первой мадам де Сегиран кавалер де Моморон не изволил больше показываться в Эксе, куда его мать тщетно призывала каждый год, по окончании кампании и возвращении галер в порт для разоружения. Как известно, в конце октября галерная эскадра возвращается на зимовку в Марсель или Тулон и выходит в море, если то требуется, лишь весной. По разоружении галер шиурма остается на судне, равно как и надзирающие за нею комиты и аргузины, а командующие ею офицеры, пользуясь этим, разъезжаются по домам для устройства личных дел, если только не предпочитают поселиться в городе и жить там на досуге. Так именно и поступал кавалер де Моморон, ссылась на то, что эксский климат ему не подходит. Напрасно старая мадам де Сегиран торопила его приехать, указывая на свой преклонный возраст; кавалер отвечал, что с таким здоровьем, как у нее, она проживет до ста лет и что он вполне успеет вернуться к ней, когда не сможет уже спать под тентом и жить по-морскому.
Но хотя старая мадам де Сегиран и редко видела своего сына-кавалера, она кое-что слышала о нем, ибо об образе жизни, который он вел в своей марсельской квартире, доходили вести даже до Экса. Сообщались некоторые черты его быта, рисовавшие кавалера де Моморона человеком довольно малопочтенным. У мсье де Моморона шла крупная игра, и рассказывали, что понтеры не всегда бывали ею довольны и не всегда убеждены в том, что партия была честной. Это вело к дракам и скандалам, получавшим неприятную огласку и отнюдь не красившим репутации мсье де Моморона, равно как и поведения мсье Паламеда д'Эскандо, неразлучного спутника кавалера на море и на суше, и говорилось даже, что и тот, и другой совместно поплывут в ад, куда их не преминут привести их разврат и непотребство.
Слыша про такие толки, мсье де Моморон смеялся, а мсье Паламед д'Эскандо жеманничал и, разглядывая в зеркало свое хорошенькое девичье личико, строил глазки направо и налево, чем возбуждал великую ревность мсье де Моморона. Кавалер, действительно, не сводил с мсье Паламеда глаз, а тот этим пользовался, чтобы добиваться от мсье де Моморона новых колец Для своих пальцев, новых нарядов для своего тела и тончайших духов и притираний, на которые был падок. Эти траты вызывали необходимость, кроме игорных доходов, в довольно настойчивых денежных просьбах, с которыми мсье де Моморон обращался к матери и брату и которыми время от времени напоминал им о себе. Следует, однако, сказать, что у кавалера де Моморона имелся и другой способ не дать о себе забыть. Мсье де Моморон был прекрасный офицер, из самых храбрых и самых искусных, и не было случая, чтобы его галера не отличилась или чтобы он не повел себя блистательно. Юный Паламед д'Эскандо подражал ему в этом и выказывал себя всякий раз мужественно смелым, так что дурная слава того и другого сопровождалась уважением, заставлявшим, несмотря ни на что, отзываться о них лестно. Не было предприятия или сражения, во время которых они не обратили бы на себя внимания своей стойкостью и отвагой.
И вот в один прекрасный день стало известно, что незадолго перед тем кавалер де Моморон был довольно тяжело ранен в морской стычке на высоте островов Стромболи, где он повел себя как обычно. Несмотря на рану, мсье де Моморон не пожелал сдать командования галерой и должен был вернуться на ней в Марсель куда вся эскадра ожидалась в последних числах октября. Эта весть достигла мсье де Сегирана как раз тогда когда он был занят поисками какого-нибудь развлечения, чтобы вывести мадам де Сегиран из меланхолии одолевавшей ее все более и более и начинавшей причинять ему некоторое беспокойство. Оно увеличивалось еще и тем, что мадам де Сегиран стала держать себя с ним по-новому; не то, чтобы она отвергала его желания, но она относилась к ним с каким-то страхом, словно боясь их проявления и последствий. Нередко она старалась найти повод уклониться от них, ссылаясь на свое здоровье или какую-нибудь иную причину. Эта телесная холодность, выказываемая по отношению к нему мадам де Сегиран, невольно удивляла мсье де Сегирана, и он предпочитал приписывать ее чему угодно, но только не тому, что обычно разлучает жен от общения с мужьями, то есть известной усталости, вызываемой у них подчас однообразием супружеского постоянства. Мсье де Сегирану не хотелось думать, чтобы то, которое проявлял он, могло быть докучным, ибо оно преследовало цель, относительно которой они с мадам де Сегиран давно пришли к соглашению.
Во всяком случае, мсье де Сегиран был не прочь воспользоваться этим ранением своего брата Моморона как средством отвлечь мадам де Сегиран от угнетавших ее меланхолических мыслей. Поэтому он предложил ей поехать вместе с ним в Марсель к приходу галер навстречу кавалеру де Моморону, чтобы узнать о его здоровье и обеспечить ему уход, могущий оказаться необходимым ввиду его раны, чего не могла сделать старая мадам де Сегиран, прикованная к креслу подагрой. Мадам де Сегиран не возражала против такого проекта и приняла его с тем же равнодушием, с каким относилась теперь ко всему решительно, как если бы ничто на свете не стоило взгляда ее прекрасных глаз, отныне почти всегда опущенных вниз, словно они вечно боялись встретиться с каким-нибудь зрелищем, способным их оскорбить. Но мсье де Сегиран полагал, что вид галер, входящих в порт, поневоле заставит ее поднять их. Таким образом путешествие в Марсель было решено, и мсье де Сегиран занялся необходимыми приготовлениями, чтобы сделать его легким и приятным. Маркиз де Турв, у которого в Марселе был дом, предоставил его в распоряжение мсье и мадам де Сегиран, дабы они могли с удобством дожидаться часа возвращения галер.
Утром двадцатого числа октября месяца к мсье и мадам де Сегиран пришли сказать, что эскадра усмотрена в открытом море и что она, по всей вероятности, войдет в порт к концу дня. День обещал быть ясным, и в два часа, когда мсье и мадам де Сегиран сели в карету, чтобы ехать в гавань, солнце сияло во всем своем блеске. Город уже принял праздничный вид, и по всем улицам к порту двигался народ, так что карета с трудом пробиралась сквозь толпу. Мсье де Сегиран любовался ее оживлением и веселостью и дивился разнообразию, которое она являла взору, ибо она состояла из всякого рода людей, горожан и ремесленников, рыбаков и матросов, продавцов плодов и цветов, нищих и карманников, не считая левантинцев, одетых по-турецки. Весь этот пестрый люд теснился и толкался среди шума шагов и голосов, среди запаха пряностей и моря, с шутками, смехом и криком. Чем ближе к набережной, тем гуще становилась давка. Люди мяли и давили друг друга, чтобы протискаться на первые места. Уличные торговцы расставили свои лотки и продавали съестное и всякую мелочь. Здесь можно было выпить и закусить. Вам предлагали мальгское вино, арбузы, раковины. Нищие выставляли напоказ свои язвы и протягивали свои чашки. Фокусники и шарлатаны упражнялись в своем промысле и торговали лекарствами и амулетами. Птичник держал в клетках разных заморских птиц диковинной окраски и, на шестах, многоцветных попугаев, выстроенных в ряд, словно на параде. Перед длиннобородым левантинцем прыгала стая голозадых обезьян, и их дразнили ободранные шалунишки в дырявых штанах, сквозь которые просвечивали бедра. Иной раз возникала драка из-за поползновения какого-нибудь воришки. Обменивались тумаками; перекрещивалась брань. Иногда появлялось шествие: какое-нибудь братство с хоругвями и эмблемами. Ждали городской совет, который должен был явиться приветствовать герцога Вердонского, командующего эскадрой, и поздравить его с благополучным прибытием.