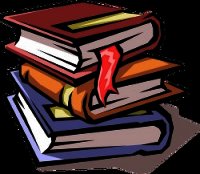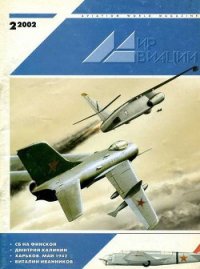Летописец. Книга перемен. День ангела (сборник) - Вересов Дмитрий (книги полностью бесплатно .txt) 📗
На следующий день Михаил объявился в отделе кадров института, где по-прежнему восседал Виктор Иосифович, распространяя запах табачного перегара, и охранял переходящее знамя. Увидев Мишу, он коротко кивнул и сказал:
– Ну, здравствуй, Михаил Александрович. А я тебя ждал-поджидал.
– Я восстанавливаться, Виктор Иосифович, – сообщил Миша.
– Хорошее и своевременное дело, – одобрил кадровик и предложил, как когда-то: – Пойдем покурим.
Они устроились на том самом облупленном подоконнике, и Маковский, вздохнув, сморщил лоб и забарабанил по стеклу:
– Сразу, Михаил, скажу: мне нечем тебя порадовать. Я очень долго и осторожно все узнавал, и – вот. Твой отец умер в тюрьме, там, в Чите. Не расстреляли, а умер. И я тебя спрошу, как взрослого человека и мужчину: догадываешься, по какой причине вдруг умер?
Миша обхватил ладонью нижнюю часть лица, чтобы не видно было задрожавших губ, и кивнул коротко и нервно.
– Очень тяжело, я понимаю, – потрепал его по плечу Маковский.
– А… мама? Тоже?
– Мама твоя умерла на этапе. Заболела и умерла. Вот и все, и тебе с этим жить, Миша. Чем тебя утешить? Не знаю. Прости.
– Спасибо, Виктор Иосифович. Я справлюсь, я теперь справлюсь. У меня Паша есть, жена.
– Прими мои искренние поздравления. А я тебе сейчас еще историю расскажу. Помнишь, была такая девушка по имени Лида Чижова, интересная девушка и многим нравилась?
– Как не помнить, – горько усмехнулся Михаил, – всю жизнь буду помнить.
– Ну и напрасно. И потом, я так понимаю, что, не отправься ты на Волго-Дон благодаря папаше этой самой Лидии, ты бы и не встретил свою дорогую подругу. Да, так вот знаешь ли, когда Лаврентия Палыча арестовали, а Ларионов наш в Москву сбежал, то папашу-то нашего отправили куда Макар телят не гонял, заготконторой заведовать. Рога там, копыта… или еще что, не знаю даже.
– А Лидия? – вырвалось у Миши.
– Что – Лидия? Лидия – девушка совершеннолетняя. Она успела институт закончить до известных событий, а то бы отчислили. Где-то здесь работает, то ли в мостоотряде, то ли в НИИ каком-то. Личная жизнь только не сложилась. По слухам, у нее был женишок-красавчик, оперный певец, так бросил с перепугу. Раньше-то бросали тех, у кого родители – враги народа, а теперь вот… наоборот. Да.
Берлин. 2002 год
Лишь дойдя до середины моего сочинения, я заметил, что оно удалось; я никогда не был так благочестив, как в ту пору, когда трудился над ним; ежедневно я преклонял колени и молил Господа, чтобы он дал мне сил для благополучного завершения этого моего труда.
...
«Так вот о Франце, любознательная фрау Шаде, если Вы еще не утомились и если Вас не сморил сон. Меня-то сморил, я тут поспал в камере часика два, а потом явился надзиратель, Толстый Клаус, как он зовется, и объяснил мне весьма доходчиво, что спать полагается ночью, а не перед ужином. А сам-то! Как будто всему нашему шестому корпусу не известно, что сам он любит вздремнуть во время дежурства. А известно сие по той причине, что спит он весьма громко, на редкость громко, выводя носом исключительно разнообразные по тональности и стилю рулады. Ах, какие рулады! Просто произведение искусства. Тут вам и тема встречи влюбленных: заливистый, словно хрустальный колокольчик, смех юной девушки и вздохи страдающего от любовного нетерпения юноши. Тут вам и явственный шелест газонной травы под осторожными шагами влюбленного. Тут вам и тихо струящийся лунный свет – да-да, луна не так уж и безмолвна, как может показаться. Тут вам и неаполитанская серенада, исполняемая громко, но несколько фальшиво. Тут вам и пробужденный серенадой грозный родитель, мечущий громы, молнии и цветочные горшки с подоконника. Тут вам и треск свадебного фейерверка, тут и громкие стоны сладострастия, и звуки страдания, издаваемые переполненным кишечником, и утробная песнь сливаемой в унитаз воды… Вот я и наябедничал на Толстого Клауса. Элегантная маленькая месть, а, фрау Шаде?
Ах да! О Франце. Об успешном молодом человеке…»
Фрау Шаде подумала, что, прежде чем снова приняться за чтение, хорошо бы встать с постели, умыться и спокойно позавтракать. Потом вычесать линяющего Кота и провести с ним разъяснительную беседу по поводу того, где положено спать домашним животным, поскольку папка с рукописью, выбранная им в качестве ночного ложа, теперь вся была в кошачьей шерсти. Даже между страницами попадались длинные серые ости и мелкие гнезда подшерстка, липнущие и к постельному белью, так как фрау Шаде, едва проснувшись, подняла рукопись с пола и взялась за чтение.
Что бы по этому поводу сказала старая перечница Августа Мюнх! Известно что. И, пожалуй, была бы права. Надо все же встать и одеться, привести себя в порядок, а потом уж. Ну да ладно. Еще пять минут чтения.
...
«Франц, как Вы догадываетесь, успешно защитил свою сложную диссертацию и вскоре благодаря своим научным достижениям и неотразимому обаянию, с годами только растущему, получил в университете профессорскую должность и собственную кафедру. Но он не зачах в аудиториях и библиотеках, он очень настойчиво и, я бы сказал, темпераментно продвигал результаты своих исследований в область промышленную. Его разработками весьма заинтересовалось военное ведомство, что его нимало не разочаровало. Военные ведь не жалеют денег на свои нужды, даже если страна разорена и большинство населения вынуждено употреблять в пищу вредные для здоровья эрзацы.
Все складывалось удачно для Франца, он даже вышел на международный уровень, участвовал в конференциях и симпозиумах, стал вхож в круг весьма солидных ученых. Смущало его лишь то, что работает он в стране, уровень развития которой его не совсем устраивал, как, впрочем, и путь духовного развития, слишком уж отличный от того, к которому он приноровился и привык в покинутой России.
Тем временем по Германии сначала тенью, потом летучей мышью, потом уж не знаю какой еще тварью, заметался Маленький Ефрейтор. Заразная была тварь. Германию охватила страшная эпидемия, и, дабы спастись от преступных последствий безумия, сопровождавшего болезнь, разумнейшая Александра Юрьевна, мама Франца, вовремя свернула свое процветающее дело, без промедления отправилась в Соединенные Штаты, имея в своем багаже растерянного мужа, антикварные драгоценности и солидную пачку ценных бумаг, позволявших безбедно существовать в Новом Свете. Франц обещал присоединиться к родителям позже, по завершении серии экспериментов, которые он наблюдал на одном как бы и не существующем предприятии, чрезвычайно интересных ему самому.
Но… Чего не суждено, того не суждено. Эксперименты были благополучно завершены, а результаты их по известным причинам не были опубликованы и обсуждались лишь в узком кругу дойче специалистов. Однако о результатах этих экспериментов таинственным образом оказалась осведомлена Москва, где искренне заинтересовались деятельностью молодого ученого. За чем же дело стало, сказали в известном ведомстве под названием Государственное политическое управление. За чем же дело стало? Советской стране нужны квалифицированные специалисты, тем более в такой перспективной, только-только начавшей развиваться области, как ракетная техника. К тому же есть надежда, что некий специалист, крупный ученый Ф. О. М., будет работать не за страх, а за совесть, потому что он выходец из России и стало известно о его ностальгических настроениях. Не пригласить ли этого ученого поработать – хотя бы на время, посулив все, что ему заблагорассудится?
Сказано – сделано. И Франца пригласили поработать в Советский Союз к известнейшему и уважаемому во всем мире физику Иоффе. Франц почел такое приглашение за честь и немедля выехал в Ленинград, где Иоффе руководил институтом. В Германию Франц уже не вернулся, там окончательно утвердился Маленький Ефрейтор, который нравился Францу еще меньше, чем Усатый Риторик. Францу Оттовичу сразу же было оказано беспрецедентное доверие: его посвятили в тайны, в саму суть секретных разработок той проблемы, над которой ему предстояло трудиться. Разумеется, при таких условиях нечего было и думать выехать из страны (ну разве что изредка на какой-нибудь конгресс, под бдительным присмотром, чтобы, например, не похитили). Мысль об отъезде в Соединенные Штаты к родителям тоже пришлось оставить. Переписываться все же разрешили.