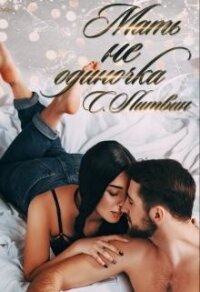Дороже самой жизни (сборник) - Манро Элис (книги регистрация онлайн txt, fb2) 📗
Я согласилась об этом помнить. Меня не особенно удивили его слова. Тогда многие так думали. Особенно мужчины. Были вещи, которые мужчины терпеть не могли. Или «не видели в них смысла», как тогда говорилось. Вероятно, мужчины относились к этим вещам так же, как я к алгебре, — я очень сомневалась, что когда-нибудь пойму, какой в ней смысл.
Правда, я не требовала на этом основании, чтобы алгебру стерли с лица земли.
Утром, когда я спустилась из спальни, дядя Джаспер уже ушел. Бернис на кухне мыла посуду, а тетя Дон ставила бокалы в сервант. Она улыбнулась мне, но руки у нее чуть дрожали, и бокалы предостерегающе звякали.
— Дом мужчины — его крепость, — сказала она.
— Крепость, форт, — сказала я. — Игра слов.
Тетя снова улыбнулась, но, кажется, даже не слышала, о чем я говорю.
— Когда будешь писать матери в Гану… когда будешь писать… наверно, лучше не упоминать о… то есть, я хотела сказать, я не знаю, стоит ли тебе упоминать о том маленьком инциденте, который вышел у нас вчера вечером. Когда она там видит столько настоящих бедствий, и голода, и все такое… мне кажется, с нашей стороны было бы очень эгоистично писать ей о таких тривиальных мелочах.
Я поняла. И даже не стала говорить, что, насколько мне известно, в Гане голодающих нет.
И вообще, мои письма к родителям были полны ехидных описаний и жалоб только в первый месяц. Потом все стало слишком сложно и невозможно объяснить.
После разговора про музыку дядя Джаспер начал относиться ко мне чуточку уважительней. Он выслушивал мои взгляды по поводу общедоступного здравоохранения так, словно я высказывала собственные мысли, а не просто повторяла за родителями. Один раз дядя сказал даже, что очень приятно за едой поговорить с думающим человеком. Тетя с ним согласилась. Она согласилась лишь в угоду дяде, и, когда тот рассмеялся особенным смехом, покраснела как свекла. Ей приходилось нелегко, но в конце концов дядя ее простил и на День святого Валентина подарил ей подвеску из гелиотропа. Получив подарок, тетя заулыбалась и тут же отвернулась, чтобы смахнуть слезу облегчения.
Может быть, восковая бледность Моны и резкая угловатость ее тела, лишь слегка сглаженная серебристым платьем, были признаками болезни. О ее смерти той же весной сообщила местная газета, упомянув также про концерт в ратуше и перепечатав некролог из торонтовской газеты с кратким описанием музыкальной карьеры — не блестящей, но весьма достойной. Дядя Джаспер выразил удивление — не смертью сестры, но тем, что ее должны были похоронить не в Торонто. Мону должны были проводить в последний путь из церкви Осанны, расположенной в нескольких милях к северу от нашего городка, в сельской местности. Когда дядя Джаспер и Мона-Мод были маленькими, это была их семейная церковь. Англиканская. Сейчас дядя Джаспер и тетя Дон ходили в Объединенную церковь, как большинство зажиточных семей города. Прихожане Объединенной церкви были тверды в вере, но не считали, что обязательно являться в церковь каждое воскресенье. Они также не думали, что Господь гневается, если люди иногда выпьют рюмочку-две. (Бернис, горничная, ходила в другую церковь, где играла на органе. Ее собратья по вере были немногочисленны и со странностями. Они подбрасывали на пороги домов городка листовки со списками людей, которым суждено гореть в аду. Не местных жителей, а знаменитостей вроде Пьера Трюдо.)
— В той церкви даже службы больше не служат! — возмущался дядя. — Какой смысл везти ее туда? Я думаю, им и не разрешат этого.
Но оказалось, что церковь еще открыта. Те, кто когда-то в юности посещал ее, теперь заказывали в ней отпевание, а иногда дети старых прихожан там венчались. Внутри церковь выглядела ухоженной — кто-то завещал на это деньги — и была оборудована вполне современной системой отопления.
Мы с тетей Дон поехали туда на ее машине. Дядя Джаспер был занят и мог освободиться только в последнюю минуту.
Я никогда не бывала на похоронах. Мои родители не считали, что такой жизненный опыт необходим ребенку, несмотря на то что в их кругу, насколько я помню, похороны назывались «праздником жизни».
Вопреки моим ожиданиям тетя оделась не в черное. Она была в костюме мягкого сиреневого цвета, мерлушковом жакете и такой же мерлушковой шляпке-таблетке. Тетя выглядела очень хорошенькой и явно была в прекрасном настроении, хотя и пыталась это скрывать.
Смерть Моны вырвала жало из плоти. У дяди Джаспера в плоти сидело ядовитое жало, а эта смерть его вырвала, и, конечно, тетя не могла не радоваться.
С тех пор как я поселилась у тети и дяди, мои взгляды на жизнь частично изменились. Я уже не могла некритично относиться к людям вроде Моны. И к самой Моне, к ее музыке и к ее карьере. Я не считала ее уродом или чудовищем, но могла понять, почему некоторые другие люди так считают. Дело было не только в широкой кости и крупном носе, в скрипке и чуть смешной позе скрипача — дело было в самой музыке и в том, как Мона была ей предана. Если ты женщина, преданность чему угодно может сделать тебя смешной.
Я не хочу сказать, что дядя Джаспер полностью перетянул меня на свою сторону, просто его взгляды уже не казались мне такими дикими и чуждыми, как раньше. Ранним утром в воскресенье — прокрадываясь мимо закрытой двери тетиной и дядиной спальни, чтобы стянуть на кухне скон с корицей из тех, что тетя испекла накануне, — я слышала звуки, каких никогда не издавали мои родители или кто-либо еще из знакомых мне людей: рык и взвизги наслаждения. Двое сливались в самозабвенном пособничестве. Меня это тревожило, открывая темные бездны и подрывая мою уверенность.
— Вряд ли из Торонто много народу сюда поедет, — сказала тетя. — Гибсоны тоже не попадают. У него важная встреча, а ей не удалось отменить уроки.
Она говорила о тех самых соседях. Они продолжали приятельствовать, но дружба слегка остыла и уже не подразумевала хождения друг к другу в гости.
Девочка в школе предупредила меня: «Вот погоди, они тебя потащат на Последнее Прощание. Меня заставили смотреть на бабушку, и я упала в обморок».
Я не знала, что такое Последнее Прощание, но догадалась. Я решила, что зажмурюсь и буду смотреть через щелочки между веками и притворяться.
— Только бы в церкви не пахло плесенью, — продолжала тетя Дон. — У твоего дяди очень чувствительные носовые пазухи.
Плесенью в церкви не пахло. И каменные стены и пол не сочились мрачной сыростью. Наверно, кто-то пришел с утра пораньше, чтобы включить отопление.
На скамьях почти не оставалось места.
— Много пациентов твоего дяди собралось, — тихо заметила тетя Дон. — Как мило с их стороны! В городе есть и другие доктора, но к другому столько людей не пришло бы.
Орган играл хорошо известный мне гимн. Моя ванкуверская подруга когда-то исполняла его на пасхальном концерте. «Иисус, мое желанье».
За органом сидела та самая пианистка, чье выступление в нашем доме так внезапно оборвалось. Рядом с ней был и виолончелист, на местах для хора. Наверно, потом он тоже сыграет.
Мы посидели и послушали, и тут в задней части церкви раздался сдержанный шум. Я не стала поворачиваться и смотреть — я только что заметила темный длинный полированный ящик, который стоял поперек церкви, сразу у алтаря. Гроб. Он был закрыт. Если его не собираются открывать, я могу не бояться Последнего Прощания. Но все равно я представила себе Мону в ящике. Большой костлявый нос торчит кверху, лицо осунулось, глаза навечно закрыты. Я приклеила этот образ на видное место у себя в голове и держала, пока не убедилась, что меня от него не тошнит.
Тетя Дон тоже не стала оборачиваться, чтобы посмотреть, что там такое.
Источник шума приближался к нам по проходу, и оказалось, что это дядя Джаспер. Он не остановился у скамьи, где мы с тетей Дон заняли ему место. Прошел мимо — без неподобающей спешки, но деловито. С ним шел кто-то еще.
Горничная, Бернис. Вся разодетая. На ней был темно-синий костюм и такого же цвета шляпа, украшенная гнездышком из цветов. Бернис не смотрела ни на нас, ни на кого другого. Лицо ее было багровым, губы плотно сжаты.