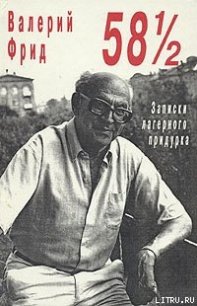Осколки одной жизни. Дорога в Освенцим и обратно - Фрид Хэди (книги хорошего качества TXT) 📗
Мы не заметили, как солнце поднялось высоко в небе и прозвучал свисток на обед. Нас отвели в большое светлое помещение, где другие рабочие, военнопленные из Прибалтики и Франции, уже сидели за накрытыми столами. Мы не верили своим глазам, глядя на белые скатерти, тарелки, ложки, стаканы и графины с чистой водой. В центре стола стояла большая корзина с кусками черного хлеба. Мы смотрели, не отрываясь, боясь, что все это может исчезнуть до того, как попадет к нам в рот. Когда мы уселись, девушка в белой куртке внесла котел дымящегося супа. Она обслуживала нас. Суп был густой, в нем были овощи, мясо и макароны. Когда я осторожно протянула руку к хлебу, Герман сказал, что мы можем есть, сколько хотим. Когда хлеб был съеден, принесли еще корзину. Мы ели суп медленно, чтобы продлить удовольствие, но когда опорожнили тарелки, нам предложили добавку. Мы ели и ели, пока не наполнились даже наши пустые желудки.
На следующее утро мы с трудом верили тому, что было вчера и предвкушали такой же обед. Впервые за много недель мы могли спать, не страдая от голода. Жизнь стала терпимой, но ненадолго.
Через несколько дней комендант лагеря объявил, что нам не положено пользоваться привилегиями рабочих Шиндлера. Мы не военнопленные и даже не прибалты, мы — евреи. Мы больше не ездили на катере к верфи. Германа перевели в другое место, и на работу к развалинам нас повел неприятный эсэсовец — пешком, несколько километров. Здесь нам дали задание; оно было таким же, как и раньше, но обращались с нами совсем иначе. Когда наступил перерыв на обед, мы построились в очередь к котлу, и охранник выдавал нам суп — не тот изумительный суп, который мы ели у Шиндлера, а нечто похожее на водянистые помои, напоминавшие нам обед в Освенциме. Но, по крайней мере, это было что-то горячее. Мы сидели на земле со своими жестянками и мечтали вернуться к Шиндлеру.
Вечером, после работы, мы мылись, съедали свой скудный ужин и наслаждались коротким часом отдыха до отбоя. Световой день был длинный, и мы использовали эти минуты для стирки, отдыха и мечтаний. Лежа на своей койке, я могла беседовать с рекой, которая катила свои тяжелые темные волны. Она несла мне привет из лесов Чехословакии, откуда вытекала, — ее исток был недалеко от дома моего детства. Я чувствовала, что мы с ней старые приятели. Я нашла также новых друзей. Этажом выше жили военнопленные итальянцы, которые Пытались разговаривать с нами через окно. Когда они узнали, кто мы, они придумали, как посылать нам подарки. Они привязывали пакеты к веревке и спускали ее из своего окна до нашего. Мы принимали пакеты и отсылали им письма. Они присылали нам сигареты, шоколад и джем, все это было для нас не только реальной ценностью, но и знаком того, что кто-то нами интересуется.
Таким образом, мы сравнительно неплохо жили в Вильгельмсхафене и были благодарны за это нашим новым друзьям. Немногие из нас знали иностранные языки, поэтому возрос мой авторитет среди девушек, хотевших писать благодарственные письма. Я была рада выполнять роль общего корреспондента и с таким же нетерпением ждала «ответа на ответ», который всегда означал новую посылку. В пакгаузе были военнопленные и из Советского Союза. Они с интересом смотрели на нас, но не входили в контакт, как пленные итальянцы, а затем и французы. Возможно, причиной была проблема языка — никто из нас не знал русского, или, может быть, то, что им нечем было поделиться с нами. Однажды мы узнали, что среди них находится сын Сталина. Это создало почву для фантазий о том, что однажды ночью советские войска придут, чтобы освободить его, и освободят заодно и нас. Мы не знали о том, что Сталин не заботился о своем сыне, а также, что «освобождение» Советами означало бы новое заключение.
Одновременно с нами в Гамбург прибыла группа женщин из Терезиенштадта, семейного лагеря в Чехословакии. Она состояла главным образом из чешек, но были среди них и немки.
История их страданий длиннее нашей, ибо их интернировали в начале войны. Но им не остригали волосы, чему мы завидовали. Одна из этих девушек, Урсула, родилась в Гамбурге. Она уехала потому, что вышла замуж за чеха. У нее был маленький сын, о котором она часто рассказывала. Она надеялась, что сын и муж все еще в безопасности в Терезиенштадте. Мы просили ее рассказать о Гамбурге. Мы видели только пакгауз и небольшую часть Эльбы, она же нарисовала перед нашим взором широкие аллеи города, красивые здания, Старый Город и церковь Святого Николая, парки и музеи, многие из которых теперь были в руинах.
Урсула обдумывала возможность побега. Она говорила о том, по какой улице и куда пойдет, но все упиралось в то, решится ли кто-нибудь спрятать ее. Она не была достаточно уверена в своих прежних друзьях, чтобы осуществить этот план. Во всяком случае, пока я находилась в Вильгельмсхафене, она еще не решилась. Надеюсь, что впоследствии она нашла в себе мужество и добилась успеха.
Нашу группу из Венгрии и нескольких девушек из Чехословакии переместили в окрестности Алтоны. Наш новый лагерь состоял из пяти деревянных бараков, окруженных колючей проволокой. Это было намного хуже пакгауза, мы лишились посылок и вида на Эльбу. Мы больше не жили под одной крышей. В каждом бараке была своя «блоковая», которую комендант выбирал среди нас, за нами также следили надзирательницы из охраны СС, ауфзегериннен, в помещении, и эсэсовцы снаружи. Комендантом был высокий светловолосый эсэсовец — унтер-шаренфюрер, или командир группы, которого мы называли Шара. Мы старались не показываться, когда он появлялся, он мог ударить без всякой причины. Элегантный, как все эсэсовцы, в безукоризненном мундире и блестящих сапогах, он прохаживался по двору, выпучив холодные глаза в поисках жертвы.
Скоро такой жертвой стала я. Одна из девушек по имени Цили рассказала ему, как я подстрекала их поменьше работать. В первый же вечер в лагере он подошел ко мне и дважды наотмашь ударил по лицу. Прежде, чем я могла догадаться о причине, он сказал:
— Ты больше не капо. Завтра доложишь новой капо и получишь от нее распоряжения. — Новая капо была Цили…
Я не очень сожалела, так как не подходила к роли капо.
Итальянцы, которые посылали нам подарки в Вильгельмсхафене, ушли, и на их место пришли новые военнопленные — французы. Французы были намного богаче или щедрее. Мы стали получать посылки большего размера и чаще. Почти каждая из нас обзавелась «посылочным другом». Им строго запрещалось общаться с нами, если бы это обнаружили, то расстреляли бы. Но это их не пугало. Они продолжали находить возможности передавать нам небольшие пакеты и слова ободрения. Трудно сказать, что значило для нас больше — посылки или слово.
Наше школьное воспитание приучило нас любить все французское — Францию, французский язык, французских поэтов, французских писателей, просто французов. И вот теперь здесь были эти добрые люди, говорящие по-французски и делающие нам подарки. Достаточно было одного взгляда на них, и мы все влюбились. Ко мне приходили девушки, одна за другой, признавались в своих в своих чувствах и просили помочь написать любовное письмо.
Я тоже влюбилась.
Мою группу назначили на новое место работы, на строительство. Строили небольшие дома для тех, кого разбомбили, и мы должны были выполнять всякую подсобную работу. Самой трудной работой, которой, однако, все добивались, была переноска пятидесятикилограммовых мешков с цементом от лагеря до фундаментов домов. Здесь было то преимущество, что представлялась возможность пройти в одиночку целых сто метров.
Мы с Ольгой вдвоем несли мешок, когда я встретила Поля.
Меня привлекло не лицо и, конечно, не ощущение внутренней красоты. Об этом я ничего не знала. Дело в том, что, проходя мимо, он, как бы нечаянно, уронил к моим ногам пакет, как средневековая дама уронила бы свой платочек. Когда то же самое произошло на следующий день, я поняла, что влюблена. Я написала благодарственное письмо и еще через день, когда мы встретились, протянула его Полю. Мы обменялись несколькими словами.