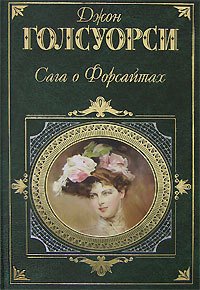Сага о Форсайтах: Собственник - Голсуорси Джон (серия книг TXT) 📗
И каждый день тетя Джули и тетя Эстер должны были являться к Энн с докладом о Тимоти, о том, что слышно у Николаса, удалось ли Джун уговорить Джолиона не откладывать свадьбу на долгий срок, раз мистер Босини строит теперь дом для Сомса, правда ли, что жена молодого Роджера в ожидании, как чувствует себя Арчи после операции и что Суизин решил делать с домом на Уигмор-стрит, арендатор которого разорился и так нехорошо поступил с Суизином; но больше всего – о Сомсе; неужели Ирэн все еще… настаивает на отдельной комнате? И каждое утро Смизер говорилось одно и то же: “Я сойду сегодня вниз, Смизер, так часа в два. Мне потребуется ваша помощь – я совсем отвыкла ходить!”
Сообщив новость тете Энн, миссис Смолл под величайшим секретом рассказала о постройке дома миссис Николас, которая в свою очередь спросила Уинифрид Дарти, правда ли это, полагая, конечно, что сестра Сомса должна быть в курсе дела. От Уинифрид, как того и следовало ожидать, новость дошла и до ушей Джемса. Он взволновался.
– Мне никогда ничего не рассказывают, – заявил Джемс. И, вместо того чтобы пойти прямо к Сомсу, молчаливость которого его всегда отпугивала, он взял зонтик и отправился к Тимоти.
Миссис Септимус и Эстер (ей тоже рассказали – она человек надежный, быстро утомляется от излишних разговоров) с готовностью и даже с большой охотой принялись обсуждать новость. Как мило со стороны Сомса дать работу мистеру Босини! Правда, это очень рискованный поступок. Как это Джордж его прозвал? “Пират”! Забавно! Джордж всегда придумает что-нибудь забавное! Во всяком случае, все будет сделано в семейном кругу – они полагают, что Босини уже можно считать членом семьи, хотя это так странно.
Тут Джемс прервал их:
– Об этом молодом человеке никто ничего не знает. Не понимаю, зачем Сомсу понадобилось связываться с ним. Уж, наверное, дело не обошлось без вмешательства Ирэн. Я поговорю с…
– Сомс просил мистера Босини молчать об этом, – вмешалась тетя Джули. – Я уверена, что ему будет неприятно, если пойдут разговоры; только бы Тимоти ничего не узнал, а то он очень расстроится, я…
Джемс приложил ладонь к уху.
– Что? – спросил он. – Я окончательно глохну. Ни слова не слышу. У Эмили опять припадок подагры. Едва ли нам удастся поехать в Уэлс раньше конца месяца. Вечно что-нибудь стрясется! – и, разузнав все, что ему было нужно, он взял шляпу и удалился.
День был чудесный, и Джемс пошел пешком через Хайд-парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сисили гостили за городом. Он пересек Роу [ 5 ] и направился к Найтсбридж-Гейт через коротко подстриженную спаленную солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки и прямо на траве ничком, как тела на поле, над которым только что пронеслась битва, лежали бездомные бродяги.
Джемс шел быстро, опустив голову, не глядя по сторонам. Вид парка центрального места того поля битвы, на котором сам он сражался всю свою жизнь, не вызывал у него ни дум, ни размышлений. Эти тела, выброшенные сюда сумятицей и напором борьбы, эти влюбленные, которые сидели здесь, тесно прижавшись друг к другу, урвав у тягостной монотонности дня какой-нибудь час безмятежного райского блаженства, не будили мечтаний в голове Джемса; он давно пережил такую мечтательность; его нос, как нос овцы, был устремлен вниз, на пастбище, на котором он пасся.
Один из его съемщиков с некоторых пор перестал торопиться со взносом квартирной платы, и перед Джемсом вставал серьезный вопрос – не выкинуть ли его ни минуты не медля, хотя бы и рискуя остаться до рождества без арендатора. Суизин уже нарвался на такую историю, и поделом ему – нечего было тянуть.
Поглощенный своими мыслями, Джемс твердым шагом шел вперед, аккуратно держа зонтик чуть пониже ручки, так, чтобы шелк не потрепался посередине и кончик зонта не доходил до земли. Высоко подняв худые плечи. Джемс быстро, с точностью механизма переступал своими длинными ногами, и его шествие через парк, залитый ярким солнцем, светившим над безмятежностью лужайки, над людьми, вырвавшимися из жестокой битвы Собственности, бушевавшей там, за оградой, напоминало полет птицы, покинувшей привычную землю и внезапно очутившейся над морем.
Выйдя на Алберт-Гейт, он почувствовал, как кто-то тронул его за рукав.
Это был Сомс: возвращаясь домой из конторы, он перешел с теневой стороны Пикадилли на солнечную и зашагал рядом с отцом.
– Мама лежит, – сказал Джемс, – я как раз шел к тебе; впрочем, может быть, я помешаю?
С внешней стороны отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности, как и у всех истых Форсайтов, однако отнюдь нельзя сказать, чтобы отец и сын не чувствовали взаимной привязанности. Возможно, что они смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие: каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. Но они ни разу в жизни не перекинулись словом о более интимных вопросах, ни разу не обнаружили в присутствии друг друга какое-нибудь, глубокое чувство.
Их связывало что-то такое, что было сильнее слов, что таилось в самой сущности нации, семьи, – ведь кровь не вода, а ни того, ни другого нельзя было назвать человеком холодной крови. Для Джемса любовь к детям стала теперь основным стимулом жизни. Сознание, что дети – часть его самого, что им он может передать свои сбережения, – вот что лежало в основе его тяги к наживе; а в семьдесят пять лет какое еще удовольствие мог он получить от жизни, кроме наживы? И основной смысл существования заключался для Джемса в сбережении денег для детей.
Во всем Лондоне, где у Джемса было столько владений, в Лондоне, который он любил молчаливой любовью, как вместилище своих удач, не было человека, несмотря на всю его мнительность, более здравомыслящего, чем Джемс Форсайт (если основным признаком здравого ума считать инстинкт самосохранения, хотя Тимоти бесспорно в этом отношении хватил через край). Джемс был наделен поразительным инстинктивным здравомыслием, присущим всему его классу. В нем больше, чем в Джолионе с его твердой волей и минутными порывами нежности и философских раздумий, больше, чем в Суизине, оказавшемся в плену у собственных причуд, Николасе, жертве своих способностей, и Роджере, мученике предприимчивости, бесперебойно пульсировал инстинкт приспособления; из всех братьев он был наименее примечателен как по уму, так и по индивидуальности и именно поэтому имел все шансы на бессмертие.