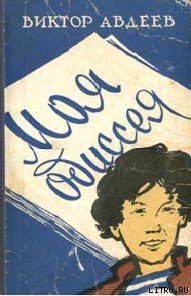Лицеисты - Московкин Виктор Флегонтович (читать книги онлайн без .txt) 📗
На крыльце бревенчатого приземистого дома, что под самым склоном, кутаясь в шубу, стоит в тени человек. Он всматривается в идущих — может, не те, кого ждет.
Двое направляются к дому, старательно стукают валенками, сбивая с них снег. Человек выходит им навстречу. Это хозяин дома Иван Калачев.
— Что так долго? — глухо спрашивает он.
Перед ним Мироныч и Федор Крутов. Мироныч усмешливо откликнулся:
— А ты думал, легко уйти от Милюкова? Уговаривал на чашку чаю. Еле отбились.
— Удалось выступить? Допустили?
— Все было, как задумали.
— Здорово выступил, — подтвердил Крутов. — Сейчас еще, видимо, затылки чешут. Досталось питерскому барину на орехи.
— Чай, полиция была? Как же ушли?
Мироныч засмеялся, вспоминая.
— Полицейских крючники затолкали меж кресел. Останавливать было некому. Мы огляделись да сразу сюда.
— Ну, давайте в дом. Ребята там затомились ждавши. Ко мне на смену вышлете потом Костю Сляднева.
Мироныч и Крутов возвратились с публичного собрания, которое устроила городская дума. Заранее было известно, что из Петербурга приедет Милюков, тот самый, что сколачивает новую партию — конституционно-демократическую.
И вот обширный, с тяжелыми люстрами думский зал набит битком. На возвышении стол, длинный, крытый зеленым сукном. За ним в креслах почтенные люди города. Председательствует угрюмый, с квадратным раздвоенным подбородком городской голова Вахрамеев — брат Вахрамеева, любителя скачек.
Милюков на трибуне. Рассказывает, отчего Россия терпит поражение в войне с Японией. Попутно зачитывает основные положения программы самой лучшей, самой разумной партии из всех бывших и ныне существующих. Каждый из присутствующих может быть зачислен в ее ряды. Думайте, господа, и спешите!
Все нынешние партии призывают бороться с самодержавием, они совершают преступление перед народом, толкая его на путь кровавой революции. Конституционно-демократическая партия пойдет по пути постепенного и мирного завоевания прав народных.
Милюков бросает в зал смелые обвинения. Он распален, воинственно топорщатся пышные пшеничные усы.
— Ответственность за поражение на фронтах несут социал-демократы. Это они вынуждают рабочих бастовать в столь тяжелое время, это они подговаривают крестьян отбирать у помещиков землю. Россия и царь страдают от смуты…
В зале нарастает гул. Прислушаться к одним — одобряют, послушать других — в пору уходить с трибуны.
Напротив входных дверей ряды заняты карзинкинцами. С откровенной скукой на лице возвышается крючник Афанасий Кропин. С боков и сзади на ряд — дюжие парни, его товарищи по работе на хлопковом складе. Здесь же Василий Дерин, Крутов. Все одеты спроста, но чисто. Пальто никто не снимал. Ждут не дождутся, когда Милюков закончит речь.
Сзади на последних рядах виднеются мундиры полицейских. Собрание публичное, разрешенное губернатором, но присмотр нужен.
Милюков наконец садится рядом с председателем Вахрамеевым. Тщетно звонит колокольчик, зал никак не утихомирится.
Но вот по проходу идет студент. Он бледен, рот крепко сжат. Милюков встречается с ним взглядом и благодушно приглаживает усы.
Что может возразить ему этот молодой человек?
— Партия народной свободы обещает добиваться конституционных прав по возможности. Восьмичасовой рабочий день осуществлять по возможности. В случае надобности, крестьяне получают землю по справедливой цене — сто рублей за десятину. Платите пять миллиардов рублей и земля ваша…
Однако у этого студента голос тверд и есть ораторский навык, приводит цифры — значит, говорит не с налету, готовился. На лице Милюкова проявляется интерес. Настороженно прислушиваются и почтенные люди за зеленым столом.
Мироныч трясет затрепанным блокнотиком.
— А вот что говорит господин Милюков о войне. — Голос становится беспощадным. — Царь-батюшка страдает… Четыреста тысяч солдат уложил он, бедный, из-за лесопромышленных предприятий, которые устраивал в Корее! Два миллиарда народных денег пришлось ему, бедному, посеять в Маньчжурии и утопить в океане по этой же самой причине. Рабочих с женами и детьми принужден был он, бедный, расстрелять в Петербурге, когда они дерзко посмели огорчить его царское сердце просьбой о помощи…
Последние слова потонули в реве, в топоте ног. Топали в передних рядах благонравные чиновники, топали за председательским столом.
— Я лишаю вас слова, — загремел Вахрамеев. Он зол, он готов рвать Мироныча на части. Посметь оскорбить государя императора! Здесь ярославская дума, а не английский парламент.
На лице Мироныча терпение. Ждет, когда можно продолжать. Поднял руку, возмущенный гул стал еще сильнее.
— День девятого января раскрыл глаза рабочим. Они поняли…
Председатель швырнул беспомощный колокольчик, поискал глазами полицейского пристава. В зале творилось невообразимое. Какие-то рослые люди оставляли кресла, запружали плотной стеной проходы.
Ко всему мигнул и погас свет.
Темнота усилила суматоху. В разных местах загорелись спички. Дальше ждать нечего. Мироныч спрыгнул с возвышения в зал. Перед самым носом спичка осветила озабоченное лицо Федора Крутова. Схватил Мироныча за руку, потащил к выходу.
Когда зажегся свет, публика рванулась к двери. Напрасно призывал Вахрамеев успокоиться и продолжать собрание, его не слушали. Боязливо косились на рабочих: чего доброго, бомбу кинут.
Афанасий Кропин и Василий Дерин сдерживали тучного пристава, стараясь затолкать его в проход между рядами. Пристав цеплялся за подлокотники кресел, упирался, рассерженно сопел. Самое удивительное было то, что борьба проходила молча. Пробиравшиеся к нему на выручку помощники оказались притиснутыми к стене, далеко от дверей.
Федор и Мироныч смешались с толпой и выбрались из зала. Тогда Афанасий Кропин поднял над головой шапку — пора уходить. Стараясь не отрываться друг от друга, рабочие двинулись к выходу. На улице не задерживаясь расходились в разные стороны.
Мироныча и Федора до самого склона провожали Афанасий Кропин и Василий Дерин.
В жарко натопленной комнате при слабом свете привернутой лампы сидели человек двадцать. Говорили вполголоса, больше потому, что за дощатой перегородкой спали дети. Оттуда, из полумрака, белым пятном виднелось застывшее в напряжении лицо хозяйки дома. Слушала, стараясь не пропустить ни слова, дивилась. Первый раз видела у себя столько незнакомых людей. Случалось, к мужу заходили приятели, с которыми работал в судоремонтных мастерских, приносили водку, спорили, пели песни. Эти говорили степенно, друг друга не перебивали. А по обличью видно — тоже мастеровые. О Мироныче, сидевшем в красном углу, под иконами, думала с любопытством: «Не из простых, наверно, чешет-то больно складно, как по книге. Пришел позднее, вместе вон с тем, русобородым, что пристроился на корточках ближе к порогу, — сразу к ней: „Здравствуйте, Анна Васильевна!“ Поди-ка, зараньше вызнал, как зовут. Обходительный!»
Не спускала с него глаз, все хотела понять, что он говорит. Видно, смелый, если не побоялся при всех в городской думе сказать, что воевать с Японией русскому народу вообще незачем, а если царю нужна война, то пусть он один и воюет, опыта ему не занимать — расстрелял же он безоружных рабочих перед своим дворцом.
«Господи! — безмолвно шептала Анна Васильевна. — Детишек-то неповинных за что? Малые, неразумные…»
Представила себя в той толпе под пулями, содрогнулась. Вырвалось невольно:
— Грех-то какой!
Мужчины притихли, обернулись к ней.
— Грех-то, говорю, господи! — стала неловко объяснять, совестясь оттого, что вмешалась в их разговор. — Стрелять в иконы грех… С иконами шли к нему. Не оставит господь этого…
— Не оставит? — Мироныч, прищурясь, вглядывался в ее лицо. Сказал как можно мягче: — Будем надеяться, Анна Васильевна, что и не оставит…
Пожилой железнодорожник, сидевший у занавешенного стеганым одеялом окна, заерзал на лавке.
— Тать лесной и то не решился бы на такое злодеяние, — басовито заметил он.