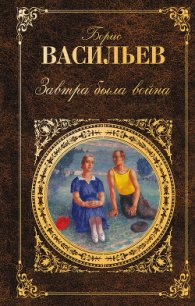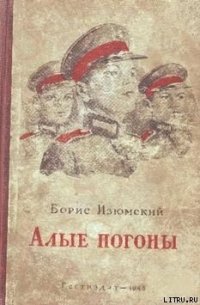Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
На наш взгляд, отношение автора «Лолиты» к автору «Детства Люверс» (эта параллель отмечена многими исследователями) базировалось на серьезном внутреннем противоречии: они в самом деле являются почти буквальными антиподами, зеркальными отражениями друг друга. Пастернак явил собою чрезвычайно плодотворный синтез авангардной эстетики и традиционной, чтобы не сказать пуританской, этики; парадокс Набокова заключается в том, что к авангарду он относился с толстовской ярко выраженной антипатией — и просоветская ориентация большинства отечественных авангардистов, их социальная революционность играли в такой оценке пренебрежимо малую роль: в «Поминках по Финнегану» и в ритмической прозе Белого ничего советского нет. Набоков весьма скептически относился к формальным экспериментам, к разрушению традиционной поэтики и повествовательности; виртуозный стилист, он вовсе не был новатором — большинство фирменных приемов его прозы в той или иной форме можно найти уже у благодарно превозносимых им Толстого и Чехова. Знаменитые набоковские лейтмотивы, «подспудные щебетанья» той или иной темы,— в гораздо более выраженном виде легко обнаружить в «Анне Карениной», хотя бы в сцене, где выросший Сережа играет в «железную дорогу». В том-то и заключалась тайна Набокова, столь неуследимая поначалу и потому так раздражавшая эмигрантскую критику,— что миру явилсявполне традиционный внешне писатель, в котором, однако, было нечто вызывающе новое, пугающе чужеродное, и этим новым был его осознанный, прокламированный разрыв с традиционной моралью русской литературы, с ее склонностью к «большим идеям», нравственному учительству и рефлексии. Любителям компромиссов нравится тезис о том, что эстетика так или иначе, рано или поздно выведет эстета к традиционной морали, что прекрасное не может быть безнравственно; еще как может, и никакого возвращения к русской традиции в набоковском творчестве нет. Моральное осуждение Гумберта или Вана Вина остается личным делом читателя; несомненное авторское сострадание к Пнину все-таки снисходительно, временами чуть ли не брезгливо; отношение Набокова к миру людей сродни цинциннатовскому — он словно окружен ватными куклами, сочувствовать которым бессмысленно. Такая позиция по-своему не менее трагична, чем вечная русская любовь-сострадание, неразборчивая милость к падшим, выжидающим только момента, чтобы втоптать сострадателя в грязь; однако наша задача — зафиксировать сам факт набоковского разрыва с нравственной традицией родной словесности. Нет сомнений, в двадцатом веке, обнажившем тотальный кризис гуманизма, это сдвиг вполне адекватный — и потому роман Пастернака, абсолютно новаторский по форме, но глубоко традиционный по своему гуманистическому пафосу, не мог не вызвать у Набокова именно идейной вражды.
«Доктор Живаго» в известном смысле был отрицанием русского психологического романа, каким он сложился в девятнадцатом веке,— все попытки Пастернака написать роман, в котором герои действовали бы согласно со своими убеждениями и волей, покоряясь разве что социальному детерминизму, с 1919 по 1936 год терпели систематический крах. Лишь музыкальный, а в некотором смысле и мистический подход к истории, полный отказ от традиционного психологизма, от устоявшегося восприятия образа и темы «лишнего человека» позволили написать роман-поэму, роман-сказку, в котором не стоит искать бытовую достоверность. «Доктор Живаго» — книга о том, как логика судьбы, частная логика биографии поэта организует реальность ради того, чтобы на свет появились шедевры — единственное оправдание эпохи. Вся русская революция затеялась для того (или, если угодно, потому), что Юрия Живаго надо было свести с Ларой, чтобы осуществилось чудо их уединенной любви в Варыкине, чтобы написаны были «Зимняя ночь», «Свидание» и «Рождественская звезда». Не человек служитэпохе — эпоха развертывается так, чтобы человек осуществил себя с наибольшей выразительностью и свободой; герой — не жертва обстоятельств, а их хозяин, тем более полновластный, что ничего не знает об этом и действует исключительно по наитию, как инструмент владеющей им силы.
Глава XLIII. Оттепель
Почти все исследователи и многие современники задаются вопросом: почему Пастернак, уцелев в тридцатые, был затравлен в пятидесятые?
Насчет чудесного спасения во времена Большого Террора («Уму непостижимо, что я себе позволял!!» — именно так, с двумя восклицательными знаками, писал он об этих временах Ольге Фрейденберг) мы уже говорили в главе о взаимоотношениях Пастернака и Сталина. В заочном поединке «предельно крайних двух начал» у него был шанс именно потому, что Сталин ценил и уважал цельные натуры. Нервозность, страх, «трепет иудейских забот» — все, что он и его клевреты чувствовали в Мандельштаме и принимали за слабину,— Пастернака как будто не коснулись вовсе: в тридцатые годы, исключая психический кризис тридцать пятого, он был по большей части спокоен. У него никогда не было страха за свою жизнь — потому он и позволял себе то, что со стороны в самом деле «уму непостижимо». Такое мировоззрение дается счастливцам, которых до сих пор жизнь по-настоящему не трогала, судьба хранила, среда оберегала. Как известно из фронтовых мемуаров, солдат не боится смерти, пока его в первый раз не ранит: первое ранение пробивает психологическую защиту. «Оказывается, такое возможно и со мной». Уязвим — значит обречен. Пастернак в своем световом коконе, в «коробе лучевом» благополучно досуществовал до тридцатых — и потому жил и действовал в счастливой уверенности, что ничего ему не сделается. Эта уверенность волшебно передавалась окружающим: есть высокие покровители (они и были до поры — в первую очередь Бухарин), есть связь с Грузией (хотя сам Сталин в то время отрекался от своих грузинских корней, желая быть русским царем), есть, наконец, тайное распоряжение не трогать (скорей всего мифическое — но звонил жеему Сталин зачем-то! не случайно, наверное!). Такова была сатрапская логика, позволившая Пастернаку уцелеть во времена, когда остальные, дрожа, поднимали руки: Переделкино молчит, как вымершее,— а он на все окрестные дачи трубно возглашает: «Зи-и-на, я иду-у к Пильняка-ам!» — зная, что Пильняка взяли накануне. Жизнь Пастернаку спасла именно его цельность — как, вероятно, и Булгакову. Не будем искать во всем личных распоряжений Сталина, его тайных сигналов и полускрытых предпочтений: сама эпоха была такова, что мягких перемалывала, а твердых подчас щадила.
Что происходит в пятидесятые? Почему в это время кончилось небывалое везение Пастернака? Ведь, опубликовав за границей роман, он не сделал ничего более крамольного, чем в тридцатые годы: поездка в Москву с требованием снять его подпись под писательским письмом, одобряющим расстрелы, в 1937 году была несомненно опаснее, чем публикация в 1957-м романа о судьбах русского христианства! Парадокс хрущевской эпохи заключался в том, что для цельных личностей она представляла большую угрозу, чем для конформистов, приспособленцев и демонстраторов фиги в кармане. Помимо лозунгов, широковещательно объявленных целей и государственно поощряемых добродетелей, каждая эпоха характеризуется еще и трудноуловимыми, метафизическими признаками. Однако в них-то все и дело. Самый дух хрущевской оттепели был конформистским, промежуточным, межеумочным — словом, чего-чего, а уж цельности и ясности в этой эпохе не было. Честность не поощрялась — ибо при самых добрых субъективных намерениях честности не было уже в самом намерении натянуть на злобно оскаленный череп резиновую маску «человеческого лица».
Интересно замечание Н.Ивановой в ее статье «Собеседник рощ и вождь»: Пастернак не принял никакого участия в разоблачении культа личности. Причин тому было, на наш взгляд, много: не чувствовал себя вправе (не был репрессирован), стыдился того, что терпел вместе со всеми; не желал присоединяться к хору пошляков, дружно отрекавшихся от «стачинистского прошлого» (соблазну этому, кажется, смог противостоять один Симонов); а вернее всего — чувствовал, что диктатура в СССР была первосортная, а свобода настала, увы, второсортная. В ее «вакханалии» он участвовать не хотел — именно потому, что разрешили. Слово «первосортная», разумеется, лишено здесь всякой позитивной модальности: речь идет, если угодно, о степени эстетической цельности. Сталинская диктатура была именно диктатурой —хрущевская свобода свободой не была. В этом первопричина того, что к оттепели Пастернак с 1955 года относился крайне скептично, и таких свидетельств множество. Наиболее красноречиво, как всегда, его собственное стихотворение 1956 года — непосредственный отклик на XX съезд и самоубийство Фадеева: