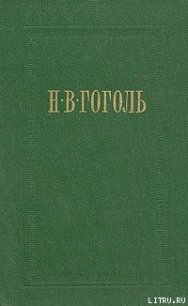Вечера на хуторе близ Диканьки - Гоголь Николай Васильевич (книги бесплатно .txt) 📗
– Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей козацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных рыл ваших на затылок!
Не успел он докончить последних слов, как все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло.
– Ладно! – провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми потому, что личина у ней была чуть ли не красивее всех. – Шапку отдадим тебе, только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!
Что прикажешь делать? Козаку сесть с бабами в дурня! Дед отпираться, отпираться, наконец сел. Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов.
– Слушай же! – залаяла ведьма в другой раз, – если хоть раз выиграешь – твоя шапка; когда же все три раза останешься дурнем, то не прогневайся – не только шапки, может, и света более не увидишь!
– Сдавай, сдавай, хрычовка! что будет, то будет.
Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки – смотреть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет; а ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем! Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: «Дурень! Дурень! Дурень!»
– Чтоб вы перелопались, дьявольское племя! – закричал дед, затыкая пальцами себе уши.
«Ну, думает, ведьма подтасовала; теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. Поглядел на карты: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучше; только ведьма – пятерик с королями! У деда на руках одни козыри; не думая, не гадая долго, хвать королей по усам всех козырями.
– Ге-ге! да это не по-козацки! А чем ты кроешь, земляк?
– Как чем? козырями!
– Может быть, по-вашему, это и козыри, только, по-нашему, нет!
Глядь – в самом деле простая масть. Что за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть дурнем, и чертанье пошло снова драть горло: «Дурень, дурень!» – так, что стол дрожал и карты прыгали по столу. Дед разгорячился; сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведьма опять пятерик; дед покрыл и набрал из колоды полную руку козырей.
– Козырь! – вскричал он, ударив по столу картою так, что ее свернуло коробом; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.
– А чем ты, старый дьявол, бьешь!
Ведьма подняла карту: под нею была простая шестерка.
– Вишь, бесовское обморачиванье! – сказал дед и с досады хватил кулаком что силы по столу.
К счастью еще, что у ведьмы была плохая масть; у деда, как нарочно, на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочи нет: дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошел уже так, не глядя, простою шестеркою; ведьма приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку под стол – и перекрестил: глядь – у него на руках туз, король, валет козырей; а он вместо шестерки спустил кралю.
– Ну, дурень же я был! Король козырей! Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз! валет!..
Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда не возьмись шапка – бух деду прямехонько в лицо.
– Нет, этого мало! – закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. – Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня гром на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас! – и уже было и руку поднял, как вдруг загремели перед ним конские кости.
– Вот тебе конь твой!
Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. Жаль старого товарища!
– Дайте ж мне какого-нибудь коня, выбраться из гнезда вашего!
Черт хлопнул арапником – конь, как огонь, взвился под ним, и дед, что птица, вынесся наверх
Страх, однако ж, напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В какие местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах. Глянул как-то себе под ноги – и пуще перепугался: пропасть! крутизна страшная! А сатанинскому животному и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться: не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деялось с ним в то время, ничего не помнил; и как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем; перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты.
Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовщина! что за пропасть, какие с человеком чудеса делаются! Глядь на руки – все в крови; посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою – и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату; смотрит: дети пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: «Дывысь, дывысь, маты, мов дурна, скаче!» [ 3] И в самом деле, баба сидит, заснувши перед гребнем, держит в руках веретено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявши за руку потихоньку, разбудил ее: «Здравствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотрела, выпуча глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что печь ездила по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лоханки, и черт знает что еще такое. «Ну, – говорит дед, – тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет освятить нашу хату; мне же теперь мешкать нечего». Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать: как повели его в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, – и тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату – нет; в другую – нет; в третью – еще нет; в четвертой даже нет; да в пятой уже, глядь – сидит сама, в золотой короне, в серой новехонькой свитке, в красных сапогах, и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку синицами, как… всего и вспомнить нельзя. Об возне своей с чертями дед и думать позабыл, и если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то дед молчал, как будто не до него и дело шло, и великого стоило труда упросить его пересказать все, как было. И, видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку.
Часть ВТОРАЯ
Предисловие
Вот вам и другая книжка, а лучше сказать, последняя! Не хотелось, крепко не хотелось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною: «Вот, говорят, одурел старый дед: на старости лет тешится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно, думаете, что я прикидываюсь только стариком. Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет! Теперь если что мягкое попадется, то буду как-нибудь жевать, а твердое – то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не бранитесь только! Нехорошо браниться на прощанье, особенно с тем, с кем, бог знает, скоро ли увидитесь. В этой книжке услышите рассказчиков все почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. А того горохового панича, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков и из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказывал этого случая? Послушайте, тут прекомедия была! Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости (нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровья, не забывают старика. Уже есть пятидесятый год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть, близ семидесяти. Диканьский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесят лет, как его нет на свете). Вот приехали ко мне гости: Захар Кирилович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кирилович Хлоста; приехал еще… вот позабыл, право, имя и фамилию… Осип… Осип… Боже мой, его знает весь Миргород! он еще когда говорит, то всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в боки… Ну, бог с ним! в другое время вспомню. Приехал и знакомый вам панич из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человек. Разговорились все (опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры: чтобы, как говорят, вместе и услаждение и назидательность была), разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже… » Ничего из этого не будет! – подхватил полтавец, заложивши руку в гороховый кафтан свой и прошедши важным шагом по комнате, – ничего не будет! Прежде всего нужно пересыпать канупером, а потом уже…» Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали канупером? Правда, кладут смородинный лист, нечу'й-ветер, трилистник; но чтобы клали канупер… нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. Ну, говорите же вы! Нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону: «Слушай, Макар Назарович, эй, не смеши народ! Ты человек немаловажный: сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все!» Что ж бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою; только слышали мы, как подъехала к воротам тележка с звонком; сел и уехал. И лучше! Не нужно нам таких гостей! Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как эта знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Да будто комиссар такой уже чин, что выше нет его на свете? Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Григорьевич; кажется, и не знатный человек, а посмотреть на него: в лице какая-то важность сияет, даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви когда запоет на крылосе – умиление неизобразимое! растаял бы, казалось, весь!.. А тот… ну, бог с ним! он думает, что без его сказок и обойтиться нельзя. Вот все же таки набралась книжка.