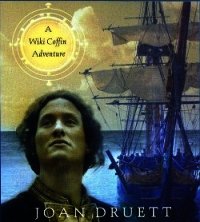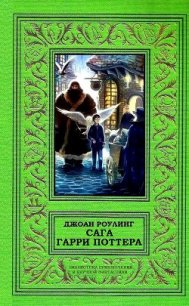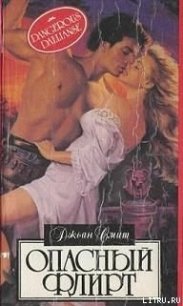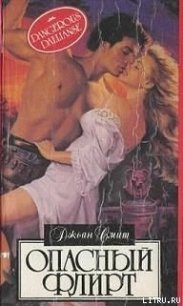Синие ночи - Дидион Джоан (электронная книга TXT) 📗
Продав дом, мы переехали в Нью-Йорк.
Где вообще-то я уже жила раньше — с двадцати одного, когда, окончив отделение английской литературы в Беркли, начала работать в журнале Vogue (настолько не понимая, куда попала, что, когда в отделе кадров компании «Конде Наст» меня спросили, какими языками свободно владею, ответила: «Среднеанглийским») до двадцати восьми, то есть до замужества.
И где жила потом начиная с 1988-го.
Тогда почему же я написала в начале, что большая часть времени, о котором хочу рассказать, прошла в Калифорнии?
Почему вдруг почувствовала себя предательницей, когда обменивала калифорнийские водительские права на нью-йоркские? Разве это не пустая формальность? Подошел очередной день рождения, пришло время обновить права — какая разница, где это делать? Ну будет на новой корочке новый номер, а не тот, который получила в пятнадцать с половиной лет в штате Калифорния, делов-то. Не говоря о том, что те права были с ошибкой. О которой я знала. В графе «рост» стояло «5,2 фута [2]». Хотя мой рост (максимальный, на пике физической формы, до того как старость укоротила меня почти на полдюйма) всегда был 5,1 ?.
Почему я так расклеилась из-за прав?
Что это было на самом деле?
Страх, что расставаясь с калифорнийскими правами, прощаюсь с юностью? Что больше никогда не вернусь в свои пятнадцать с половиной лет?
А разве мне хотелось вернуться?
Или история с правами всего лишь пример «очевидной неадекватности реакции пациента на события»?
Я взяла фразу «очевидная неадекватность реакции пациента на события» в кавычки, потому что фраза принадлежит не мне.
Карл Меннингер использует ее в книге «Война с собой», описывая склонность некоторых людей слишком остро реагировать на события, которые большинству из нас кажутся обыденными, даже предсказуемыми. Эта склонность, по утверждению автора (между прочим, доктора медицинских наук), нередко встречается у самоубийц. Он приводит в пример девушку, впавшую в депрессию и покончившую с собой из-за неудачной стрижки. Пишет о мужчине, который свел счеты с жизнью, когда ему запретили играть в гольф, и о ребенке, совершившем самоубийство после смерти любимой канарейки, и о женщине, наложившей на себя руки из-за опоздания на два поезда.
Заметьте: не на один поезд — на два.
Вдумайтесь.
Как много обстоятельств должно было сойтись, чтобы не оставить этой женщине шансов.
«В каждом из этих случаев, — поясняет Меннингер, — ценность прически, гольфа и канарейки была сильно завышена: предметы стали объектом столь глубокой эмоциональной привязанности, что их потеря (или всего лишь угроза их потерять) привела к фатальным последствиям».
Вообще-то не нужно быть доктором медицинских наук, чтобы до этого додуматься.
Интересно другое: почему ценность прически, гольфа и канарейки (не говоря уж о втором из двух пропущенных поездов) оказалась настолько завышенной? Меннингер и сам хотел бы это понять. «Откуда берутся эти непомерные сверхожидания и завышенные оценки?» — вопрошает он. Но тем и ограничивается, очевидно, сочтя, что ответ содержится в самом вопросе. Или решив, что его дело — обозначить проблему, а над разгадкой пусть бьются теоретики психоанализа. Неужели я и впрямь испытывала столь «глубокую эмоциональную привязанность» к своим калифорнийским правам, что их потеря могла привести к «фатальным последствиям»?
Неужели всерьез считала замену одних прав на другие — потерей?
Страдала в разлуке?
И чтобы покончить с темой «глубокой эмоциональной привязанности»…
В последний раз я видела наш брентвудский дом, пока он еще был нашим, в тот день, когда здоровенная фура увозила в Нью-Йорк все, что мы на тот момент нажили, включая универсал «вольво». Мы стояли на крыльце, глядя ей вслед, а потом, когда фура скрылась за поворотом на улицу Мальборо, прошли через опустевшие комнаты на веранду для символического прощания. Грусть расставания была изрядно отравлена всепроникающей вонью фтористого сульфурила и видом горстки мертвой листвы на месте, где еще недавно росли розовая магнолия и стефанотис. Даже в Нью-Йорке каждая распакованная коробка обдавала меня сульфуриловым душком. Когда в свой следующий приезд в Лос-Анджелес я решила проехать мимо нашего теперь уже бывшего дома, его не оказалось — снесли, чтобы через год-другой возвести новый, чуть побольше размером (за счет комнаты над гаражом и слегка расширенной кухни, хотя и на старой даже с концертным роялем «Чикеринг» было вполне просторно), но без нарочитой традиционности предшественника. Еще сколько-то лет спустя в одном из книжных магазинов Вашингтона ко мне подошла дочь нынешнего владельца дома — та самая, которую он мечтал выдать замуж в нашем саду. Она училась в одном из вашингтонских университетов (то ли Джорджтаунском, то ли Джорджа Вашингтона), а я приехала на встречу с читателями в магазине «Политика и проза». Она представилась. Сказала, что выросла в «моем» доме. «Заблуждаетесь», — хотела ответить я. Но сдержалась.
Про Нью-Йорк Джон всегда говорил, что мы в него «возвратились».
А я нет.
Для меня Брентвуд-парк был «тогда», а Нью-Йорк — «сейчас».
Досульфуриловый Брентвуд-парк — это такое время, такой период, такое десятилетие, когда казалось, что все в жизни складывается как надо.
Наше представление об американской мечте.
Именно так. Устами младенца.
Тогда у нас были автомобили, бассейн, сад.
Были агапантусы — африканские лилии, всполохи пронзительной синевы, парящие на длинных стеблях. Была гаура — взвеси белых прозрачных брызг; глаз начинал различать их, только когда темнело.
Был вощеный английский ситец, китайский орнамент.
Был фландрский бувье, застывший на нижней ступени лестницы — глаз приоткрыт, всегда на страже.
Время идет.
Воспоминания гаснут, видоизменяются, подстраиваются под то, что, как нам кажется, мы помним.
Воспоминание о стефанотисе в ее косе. Воспоминание о татуированной плюмерии, проступившей сквозь тюль. Даже они.
Поистине страшно умереть бездетным. Это сказал Наполеон Бонапарт.
Для смертного тяжелее муки нет, чем мертвыми своих детей увидеть. Это сказал Еврипид.
Все мы смертны, и наши дети не исключение.
Это сказала я.
Вот вспоминаю теперь тот июльский день 2003-го в соборе Св. Иоанна Богослова и поражаюсь, как молодо мы с Джоном выглядим, какими кажемся здоровыми. На самом-то деле здоровьем ни он, ни я не блистали: весной и летом того года Джон перенес несколько операций на сердце, включая установку электронного стимулятора, что, впрочем, мало отразилось на его самочувствии; я же просто потеряла сознание на улице за три недели до свадьбы и провела несколько суток в реанимации Колумбийского пресвитерианского медицинского центра, где мне переливали кровь в связи с неизвестно чем вызванным желудочно-кишечным кровотечением. «А сейчас давайте проглотим маленькую камеру», — сказали мне в реанимации, надеясь, что с ее помощью удастся установить причину кровотечения. Помню, что отнекивалась, поскольку никогда не могла проглотить не то что камеру, а обычную таблетку аспирина.
— А если попробовать? Она же маленькая.
Пауза. Поняв, что нахрапом меня не взять, перешли к долгой осаде.
— Ну правда же, прямо крошечная.
В конце концов я проглотила их крошечную камеру, и она передала на экран желаемое изображение, которое, впрочем, не помогло выяснить, чем вызвано кровотечение, но, несомненно, доказало, что при наличии известной дозы седативных средств любой человек способен проглотить крошечную камеру. В другом случае не менее бесполезного использования последних научно-технических достижений в области медицины Джон мог поднести к сердцу телефон и, набрав номер, снять показания электронного стимулятора, удостоверившись таким образом (так мне, во всяком случае, объяснили), что в момент набора номера (хотя не обязательно до и после) прибор функционирует.
2
Примерно 158 см.