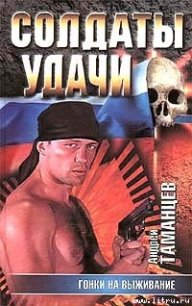Гонки на выживание - Норман Хилари (прочитать книгу TXT) 📗
Испугавшись неподвижности хозяина, Рольф подбежал и лизнул его в лоб. Андреас поднял руку и погладил морду собаки. Его гнев угас, сменившись любопытством. Он повернул голову и поглядел на незнакомца.
– Ты зачем воровал наши яблоки?
– Я умирал с голоду. Я четыре дня ничего не ел.
У Андреаса глаза округлились от изумления. Сколько он себя помнил, в его жизни не было дня, когда ему пришлось бы пропустить плотный завтрак, обед или ужин.
– Ты немец? – спросил он, уловив незнакомый акцент.
– Я еврей.
– Как тебя зовут?
– Даниэль.
– Даниэль, а дальше?
Мальчик помедлил, прежде чем сообщить свою фамилию.
– Зильберштейн, – сказал он наконец.
Андреас поднялся на ноги, подошел к ближайшей яблоне, выбрал самое лучшее яблоко и сорвал его.
– Меня зовут Андреас Алессандро, – представился он мальчику и, опустившись на колени рядом с ним, сунул яблоко ему в руку.
3
У Даниэля Зильберштейна не было детства.
Ему было четыре года, когда его дядя Леопольд был избит и брошен умирать штурмовиками в коричневых рубашках. Вся его вина состояла в намерении жениться на влюбленной в него хорошенькой лютеранке, с которой он был помолвлен с семнадцати лет. На глазах у Даниэля двое незнакомых людей внесли дядю на носилках в дом его родителей на Гюнтерштрассе в Нюрнберге. Это событие стало одним из первых воспоминаний в жизни Даниэля, тем более что произошло оно шестого мая, в день его рождения. Дядя запомнился ему веселым, красивым и сильным. Теперь его лицо напоминало череп, глаза ввалились и взирали на мир с ужасом, тело было парализовано. Даниэль помнил, как плакала мать и как тяжело молчал отец, помнил, как незнакомые люди внесли дядю Лео по лестнице в его комнату. Там он и оставался в течение трех лет – пленником, заключенным между чистыми белыми простынями, – пока мать Даниэля не положила конец его страданиям, заставив проглотить смертельную дозу морфия.
1935-й оказался знаменательным годом. У Даниэля сохранилось о нем множество воспоминаний, потому что в тот год многое изменилось в жизни его семьи. У него родилась сестра Гизела, а мама, вернувшись из больницы для евреев, три дня плакала о том, как неудачно она выбрала время, чтобы принести в этот мир новую жизнь.
Даниэль хорошо запомнил и следующие годы – 1936-й и 1937-й. Все пребывали либо в тоске, либо в страхе. Даниэлю не разрешалось выходить из дому одному, и хотя родители позволяли ему приглашать домой друзей, это было не так весело, как играть на улице. Даниэлю казалось, что на улице ничего такого страшного с ним не случится, и в 1937 году он дважды тайком сбегал из детского сада.
В первый раз он сел на трамвай, идущий в центр города, и слез на кипящей жизнью Каролиненштрассе. Он не был там уже бог знает сколько времени, и ему не терпелось узнать, как выглядит магазин его отца теперь, когда его отобрали нацисты. Оказалось, что магазин выглядит в точности, как и раньше, если не считать вывески над главным входом, где вместо «ЗИЛЬБЕРШТЕЙН» красовалось «ФРАНКЕ», а рядом была надпись, гласившая: «JUDEN UNERWUNSCHT» [1].
Во второй раз он сбежал, когда Адольф Гитлер приехал в Нюрнберг на партийный съезд. Все знали, что Гитлер будет держать речь на огромном стадионе, который нацисты построили неподалеку от их дома на Гюнтерштрассе, уничтожив ради этого большой старинный парк. Даниэль знал, что родители страшно рассердятся на него, если узнают, но ему очень хотелось своими глазами увидеть нациста номер один.
Ему так и не довелось увидеть Гитлера, зато он увидел множество других нацистов, мужчин и мальчиков в коричневых и черных мундирах. Они маршировали и пели, несли знамена и штандарты. Даниэль встал на цыпочки и вытянул шею, чтобы лучше видеть. Стоявшая рядом с ним полная блондинка в зеленой фетровой шляпе с пером подхватила его под мышки и подняла в воздух.
– Смотри, мальчик, смотри! – воскликнула она. – Вон там наш фюрер! Видишь?
Но Даниэль разглядел только фрейлейн Краусс из отцовского магазина. Она стояла на скамейке между двумя мужчинами и махала одной рукой как безумная, а другой прижимала к груди портрет фюрера. Восторженные слезы текли по ее лицу, красный от помады рот был распялен в истерическом вопле «Хайль Гитлер!».
Фрейлейн Краусс напугала его больше, чем все остальные нацисты, вместе взятые. Он начал брыкаться, высвобождаясь из рук толстой блондинки, причем нечаянно лягнул ее в живот. Она возмущенно ахнула от неожиданности, а он со всех ног побежал домой, совершенно позабыв, что ему полагается быть в детском саду и что теперь ему непременно попадет. Он думал только об одном: как бы поскорее оказаться в безопасности, под защитой большого дома на Гюнтерштрассе.
После того дня Даниэль стал много думать. Он проводил в раздумьях гораздо больше времени, чем шло на пользу мальчику его возраста, но по мере того, как 1937 год плавно перетекал в 1938-й, у него почти не осталось других занятий.
Он пошел в школу, но после случая в день партийного съезда мать стала заходить за ним вместе с Гизелой и каждый день провожать домой. Даниэлю ужасно не нравилось чувствовать себя пленником в собственном доме, хотя это был чудесный дом, полный красивых вещей: их с Гизелой игрушек, красивых ковров, пахнущей лимоном и воском мебели, книг в кожаных переплетах, которые он любил держать в руках и перелистывать, хотя для него они были слишком «взрослыми».
Он замечал, как на глазах худеет его мать, а в ее пышных черных волосах все заметнее проступает седина. Отец вел себя все более странно; волосы у него на голове не седели, а исчезали, он совсем перестал улыбаться, обвисшие темные усы на бледном лице придавали ему вид печального моржа.
В сентябре 1938 года Даниэль получил письмо от Симона Левенталя из города под названием Кингстон, штат Нью-Йорк. Симон писал, что его отец теперь работает в местной больнице, что они живут совсем рядом с Нью-Йорком, самым большим городом в мире, что у него появились новые друзья, но он все еще скучает по Даниэлю.
Даниэль показал письмо матери и спросил, нельзя ли им тоже поехать в Америку, но она заплакала и порвала письмо, а потом снова склеила кусочки и сказала, что просит прощения. Она улыбнулась и объяснила, что они не могут уехать в Америку, хотя не стоит об этом жалеть: вскоре и у них все наладится. Но Даниэль видел, что она говорит неправду, просто чтобы его утешить.
– А не могли бы мы уехать еще куда-нибудь, если в Америку нельзя? – спросил он ее в другой раз. – Куда угодно, только чтобы не было нацистов.
Мама повернулась к нему спиной, и он понял, что она опять плачет, но потом она посмотрела на него, и в глазах у нее появился незнакомый ему яростный блеск.
– Я поговорю с папой, – сказала она и крепко обняла Даниэля. – Не знаю, куда нам ехать, но отсюда надо выбираться.
– Мне все равно куда ехать, Mutti [2], – умоляюще проговорил Даниэль, – но здесь мне не нравится! Поговори с папой, прошу тебя! Уговори его увезти нас отсюда!
Напуганная страстностью, прозвучавшей в голосе сына, мать попыталась его успокоить.
– Обещаю тебе, Даниэль, я поговорю с ним.
Мальчик вырвался из ее рук, его глаза потемнели от страха.
– Я боюсь здесь оставаться, – сказал он.
– Как мне убедить тебя, Йозеф? – спросила измученная спором Антония Зильберштейн. – Что еще должно произойти? Нам надо уезжать.
Она понимала, что ее Йозеф – хороший, добрый человек, но ему не хватало решительности характера, а по нынешним временам такой недостаток мог стать роковым. С того страшного утра три года назад, когда тихий, вежливый приказчик Вернер Франке самодовольной змеей проскользнул в его кабинет с листком бумаги в руках, предписывающим ему «придать магазину арийский характер», то есть отнять дело у хозяина, муж Антонии погрузился в мрачное и безнадежное отчаяние. Любой удар судьбы он принимал как нечто неизбежное и безропотно покорялся, даже не пытаясь что-либо предпринять.
1
»Евреи не обслуживаются» (нем.). – Здесь и далее прим. перев.
2
Мама (нем.).