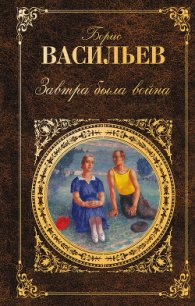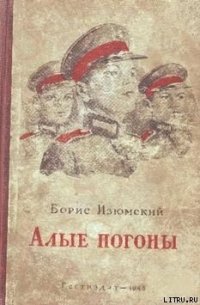Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Но тут в жизни Пастернака произошла важная перемена — она поначалу не коснулась его литературной судьбы, но человеческую перевернула. Главным редактором «Нового мира» был утвержден Константин Симонов, с которым они вместе ездили в Орел в 1943 году. Симонову дозволялся и даже предписывался либерализм. Именно он добился права впервые после постановления напечатать «Партизанские рассказы» Зощенко — то есть хотя бы и с самыми слабыми текстами, но все-таки вернуть его в литературу. Он хотел печатать и Ахматову. Когда стали потравливать Пастернака, Симонов немедленно распорядился попросить у него стихов. В ответ редакция «Нового мира» получила скромное письмо:
«Я летом начал роман в прозе «Мальчики и девочки» (нынешнее, мож. быть временное его название). Хотя он должен обнять последнее сорокапятилетие (1902—1946), но изображение исторических событий стоит не в центре книги, а является историческим фоном сюжета, беллетристически подробно разработанного в том роде, как в идеале сюжет понимали, скажем, Диккенс или Достоевский.
Прерванную в последнее время работу я возобновлю на днях и всего охотнее обошелся бы без всякого задатка, чтобы не связывать себя контрактом на еще не готовую вещь. Это выяснится на днях. Если дела мои устроятся, я воздержусь от заключения договора, чтобы сохранить свободу (чтобы надо мной не висело сознание полученного аванса и взятого на себя обязательства).
Если же я не приведу денежных дел в порядок, я буду просить редакцию сделаться со мной (с обязательным условием самое меньшее 25%ного единовременного аванса) на этот роман, объемом предположительно в 20 печ. листов, сроком на год, т.е. с обязательством представить его и начать его печатание с сентября будущего 1947 года».
Симонов тут же заключил с ним договор, причем пообещал и аванс. Так рукопись будущего «Доктора Живаго» была запродана «Новому миру», что во многом предопределило дальнейшую судьбу романа,— а сам Пастернак в октябре 1946 года появился в редакции, где не был почти десять лет. Здесь он встретился с сотрудницей отдела поэзии Ольгой Ивинской, и об этом событии, которое определило уже егособственную биографию на ближайшие пятнадцать лет, мы расскажем ниже.
Пока же — несколько слов о Симонове, который сыграл в судьбе поэта столь роковую и двусмысленную роль.
Резко негативное отношение Пастернака к Симонову представляется загадкой: да, почти все советские поэты были для него на одно лицо, да, заочный ученик Рильке принципиально не желал разбираться в оттенках вкуса заведомо безвкусной пищи; он находил невинное удовольствие в сознательном перевирании фамилии фронтовика Михаила Луконина, оскорбительно и грубо напавшего на него в проработочном выступлении (называл то Лутохиным, то Лукошкиным); почти демонстративно не читал молодых и признавался в этом. Тем удивительнее, что к одному из самых талантливых и уж точно самых известных писателей младшего поколения он относился с упорной, подчеркнутой неприязнью. Вряд ли дело было в том, что подборку стихов Пастернака Симонов в конце концов публиковать не стал. Отношение Пастернака к Симонову определяется не одним оскорбленным авторским самолюбием и даже не тем, что в своем творчестве Симонов собрал с Пастернака «обильную дань», как говорила Ахматова Лидии Чуковской еще в 1940 году. Пастернак вряд ли замечал эту «обильную дань»: слишком ясно было, что Симонов идет скорее от Тихонова, Киплинга, Гумилева; от Луговского и Сельвинского времен их первых сборников.
Симонов принадлежал к числу тех самых «прогрессистов» — либералов с верховного дозволения,— которых Пастернак не любил особенно. Буйство ЛЕФа было ему тем отвратительней, что осуществлялось «с мандатом на буйство». Но еще хуже разрешенного бунтарства казался ему разрешенный гуманизм — поскольку компрометировалось таким образом более высокое понятие. Впоследствии, во времена оттепели, он прямо напишет Ивинской о том, что предпочитает казенщину — «двойному подлогу», то есть попыткам изначально фальшивого официоза напялить на себя еще и фальшивую маску свободы. Примером двойного подлога — «голос народа при невмешательстве властей» — он назовет тогда «Литературную газету», куда из «Нового мира» переместился Симонов. Либеральничанье было Пастернаку отвратительно: фальшь он презирал сильней, чем откровенную и прямую мерзость. Об этом говорит и его монолог о Суркове и Эренбурге, записанный сыном Евгением:
«Его (Суркова.— Д.Б.) откровенное непризнание всего того, что я собой представляю, требует непрестанной борьбы. Это — советский черт, его выпускают, чтобы одернуть, обругать, окоротить (…). Но я его понимаю: это искренне и неизменно в течение всей его жизни. Он так и родился с барабаном на пупке. А Эренбург — советский ангел. Дело в самом спектакле — все роли в нем распределены. Эренбург ездит в Европу, разговаривает со всеми и показывает, какая у нас свобода, как все прекрасно. И убежден в том, что знает, по каким правилам надо играть, что где говорить. И все в восхищении от того, что он себе позволяет. Такие люди мне непонятны и неприятны неестественностью положения и двойственностью своей роли».
Это — и о Симонове, общавшемся в Париже с Буниным, свободно дружившем с американскими журналистами («прогрессивными», разумеется). Больше всего Пастернака угнетает то, что каждому остается только предопределенное амплуа. Знал он и свое амплуа — «небожитель», «дачник», пускай себе; маленькие радости интеллигенции, дозволенная внутренняя эмиграция, переводы, полулегальная фронда… Ненависть к этому амплуа отравила ему все сороковые годы — ибо к юродивому, дачнику и небожителю можно не прислушиваться: ясно ведь, что мелет ерунду. Такова была расправа за то, что Пастернак не захотел поставить себя, свое громадное обаяние и бесспорное мастерство, на службу власти, готовившей ему вакансию первого поэта; он нашел в себе силы от этого отречься — но с нишей городского сумасшедшего мириться не желал. Отсюда, возможно, и бунт в пятидесятые годы — когда тихий лирик, дачник, с чьим существованием привыкли снисходительно мириться, вдруг отдал за границу антисоветский роман. В сороковых, загнанный в амплуа «юродивого» и «небожителя», Пастернак с мучительной ревностью следил за тем, кто занял вакансию главного поэта. Есть мемуары о том, как он читал Симонова с намерением «разобраться, за что его все-таки любят».
Трудно поверить, что Пастернаку — поэту с безупречным вкусом, способному оценить даже столь далекие от него явления, как поэзию Есенина и Павла Васильева (последнего он ставил выше),— ничего не говорили лучшие стихи Симонова. Симонову, как и Пастернаку в семнадцатом году, повезло в канун войны полюбить правильную женщину — «злую, ветреную, колючую». Только ради нее можно было преодолевать страх и конформизм — и чудо книги, пусть менее масштабной и яркой, чем «Сестра», Симонов пережил. Очевидно, Пастернак это замечал и выделял его из чередысовременников; выделял — неприязнью. Если бы сервильностью, плакатностью и фальшью марал себя заурядный виршеплет, это не привлекло бы пастернаковского внимания — а может, даже вызвало бы сочувствие: он всегда сочувствовал нищим духом и презирал только тех, кому «было дано». Симонову — было. Тем оскорбительней выглядело в нем все советское, официозное, наносное. Пастернак не любил в Симонове не только раннюю сановитость — он не любил и мир его поэзии, мир офицерской романтики и корреспондентской отваги, коньячно-бивуачный, богемный, триумфаторский. Офицер, военный журналист, влюбленный в актрису, любимец крупных армейских начальников, врывающийся в города «с блокнотом, а то и с пулеметом» — так что создавалось впечатление, что войны и впрямь выигрываются корреспондентами; храбрец, авантюрист, мастер красивого жеста — таков облик лирического героя в симоновских стихах; весь этот блестящий, но фальшивый антураж не вызывал у Пастернака ничего, кроме раздражения.
В годы войны ходила эпиграмма на Пастернака — «Хоть ваш словарь невыносимо нов, властитель дум не вы, а Симонов». Эпиграмма злорадная — и неточная: в военные годы словарь Пастернака отличался аскетической простотой. Но главное — властителем дум Константин Михайлович мог стать лишь в условиях полузапрета на Пастернака, травли Ахматовой, уничтожения Мандельштама и Цветаевой. Сам Симонов тут, разумеется, ни при чем. Не он создал обстановку, в которой единственным глотком воздуха была его военная лирика. Как ни парадоксально, в любви лирическому герою Симонова приходилось потрудней, чем на войне,— тут он вовсе не был бесспорным победителем и не пользовался привилегиями главного военного журналиста. После войны Симонов поэтом быть перестал — хотя еще девять лет по инерции писал и публиковал слабые стихи. В сорок шестом году это любимец власти, ежегодный лауреат (Шолохов ярился: мол, Симонова скоро будут возить в коляске, сам он не сможет носить столько лауреатских медалей), исполнитель идеологических заказов, требовавших тонкости и мастерства. Трудно представить нечто более противоположное Пастернаку сорок шестого года. Симонов был добр легкой и нерассуждающей добротой удачливого человека, он разбирался в литературе — разумеется, в пределах своего вкуса,— и хотел, чтобы в отечественной словесности были имена помимо Михаила Бубеннова или Александра Сурова. Он искренне верил, что все советское должно быть самым лучшим. И пусть сам он Пастернака нелюбил и не понимал — в рамках его издательской стратегии было вполне органично попросить у него стихи.