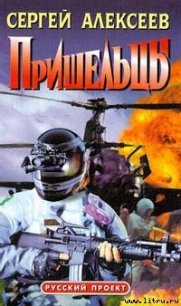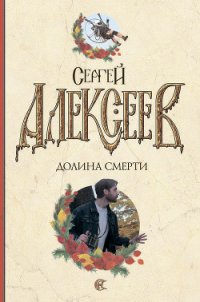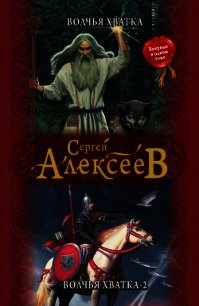Таежный омут (сборник) - Алексеев Сергей Трофимович (книги полностью .TXT) 📗
— Кому рассказывать-то? — спросил Великоречанин.
— Всем, кто спросит. А тебя спросят… — Климов помолчал. — Считай, что это приказ. Я капитан. Панченко. Запомнил? Панченко из Ярославля… А Климов — это выдумка, ложь. Ты меня слышишь?
— Слышу.
— Молшать! — прикрикнул надзиратель. — Больной разковариват нельзя
Видимо, Сашка уснул или на какое-то время потерял сознание. В себя он пришел от разрывающей тишину палаты автоматной очереди — на полу лежали капитан и «сиделка», в проеме двери, широко расставив ноги, стоял часовой…
Полгода Великоречанина кормили из ложечки, умывали, даже брили и стригли ногти. Он терпел, хотя каждый раз ощущал желание выхватить у парикмахера бритву, полоснуть его, потом себя и уйти вслед за капитаном Панченко. Но каждый раз закусывал губу и мысленно повторял приказ капитана: выжить, только выжить.
Он не знал, идет ли еще война, и если не кончилась, то кто кого одолевает. После гибели Панченко в палату никого не подселяли. Однако по поведению «докторов» он чуял, что в мире что-то происходит. «Доктора» стали торопливы, раздражительны, парикмахер брил нечисто, а санитаров-охранников постепенно заменили на женщин в военной форме.
За полгода ему сделали еще две операции: сначала вынимали какие-то железки из позвоночника, но спустя месяц опять что-то вставили. Когда он начал ходить, не ощущая боли, его вместе с остальными «больными» стали выводить на зарядку и прогулки. Иногда удавалось поговорить. Позвоночники ломали и сращивали не всем: кому-то вскрывали черепа, кому-то вырезали гортань и вставляли трубки, кого-то кормили разными таблетками и мучили уколами. Великоречанин узнал, что за отдельной загородкой стоит барак, в котором пленным прививают тяжелые болезни, а потом пытаются лечить.
Сашка запоминал все лица «докторов», а если на этих лицах были марлевые маски — запоминал глаза, запоминал охранников, парикмахеров, «сиделок», запоминал немецкие слова, фразы и целые разговоры. Прежде чем уснуть, он закрывал глаза и прокручивал в памяти все виденное и слышанное за день.
Он запоминал лица тех, кого «лечили» в этой «больнице».
Как-то раз, когда Сашка совсем уже поправился, в палату пришел генерал в белом халате и через переводчика сказал, что номеру «62811» предстоит еще одна совсем неопасная операция.
— Хребет ломать будете? — спросил Великоречанин. — Ну ломайте, ломайте. Я все одно выживу.
— Мы знаем, что русский Бес — мужественный человек, — улыбаясь, перевел толмач. — Германия не забудет о нем. По излечении русскому Бесу построят домик с садом и дадут денежное вознаграждение, которого хватит на всю жизнь.
— Пулю вы дадите, суки! — выкрикнул Сашка.
— О нет! — возразил генерал через переводчика. — Немцы никогда не забудут русского Беса.
— Да уж попомните, — проронил Сашка. — Забудете, так я напомню…
На этот раз его вывезли на полигон и посадили в танк. В тесном стальном ящике ему было душно и жарко, грохот мотора закладывал уши. Но то, что началось потом, не шло ни в какое сравнение. Танк гоняли по колдобинам и ямам, он прыгал с обрывов и крутился на месте. Водитель был привязан ремнями, одет в толстую фуфайку и мягкий шлем, Сашка же — в одной полосатой куртке. На первой же яме он разбил голову, ободрал руки и плечи. Потом стало безразлично. Стиснув зубы, он бесконечно повторял одно и то же слово: выжить.
Он не мог запомнить, сколько времени продолжалась эта гонка. После очередного крутого виража танк сильно подбросило, в глазах полыхнул огонь, и наступило то убаюкивающее состояние, которое бывало после команды: наркозе!
Он опять лежал закованный в гипс. С немцами что-то происходило. Они больше не прикидывались и не скрывали, что ставят опыты. Осматривая его, они разглагольствовали, что-де русские не годятся для их медицины, поскольку у них крепкие хребты, а у поляков — наоборот, слишком мягкие. Выходило, что самые лучшие хребты — немецкие, но почему-то эти лучшие хребты часто ломаются у немецких танкистов. И теперь «доктора» ищут способ, как их сращивать, чтобы ставить танкистов в строй. «Великой нации» не нужны были инвалиды.
На этот раз Великоречанин выздоравливал долго. Трижды его клали на операционный стол, резали, ставили и вынимали какие-то железки. Он раньше «докторов» понял, что стал инвалидом, и постепенно готовился к последней операции. Его должны были прирезать как ненужного больше кролика…
Но капитан Панченко оказался прав: немцы ничего не делают зря. Видно, он «не окупился» еще, «не отработал» за хорошее питание, белый хлеб, за бритье. Его перевели в другую палату и начали качать кровь — последнее, что можно было взять…
Только здесь, в густонаселенной палате «доноров», Сашка узнал, что война идет к концу, что наши уже освободили Украину и Белоруссию и теперь, поди, уже идут к Берлину.
Впервые за все время жизни в «больнице» он подумал, что, может быть, и вправду вылечится и выживет…
Однажды ночью в блоке раздались глухие выстрелы. Палата переполошилась. Сиделка — пожилая крикливая немка — выскочила за дверь и стала звать на помощь. Пленные забаррикадировали кроватями двери и легли на пол вдоль стен. А выстрелы стучали все чаще и ближе, коротко гремели автоматные очереди. Через некоторое время в дверь начали ломиться, однако быстро отступились, полоснули ее несколько раз из автомата, и все смолкло. Кто-то уже начал вставать, когда в окно влетела граната…
Потом долго, до самого утра, было тихо. А может, просто Сашка ничего не слышал — от взрыва заложило уши. Недалеко что-то горело, и в разбитое окно тянуло дымом. Утром он услышал голоса, речь была странная, не похожая ни на русскую, ни на немецкую.
— Американцы! — крикнул кто-то из «доноров». — Союзники!
Кровати растащили, опасливо выглянули в коридор. Военные с винтовками бросились навстречу, забормотали что-то, указывая на распахнутый, светлый дверной проем…
Оставшихся в живых узников страшной «больницы» присоединили к большой группе освобожденных из другого лагеря и около недели держали в маленьком городке, расквартировав их в военных казармах. Бывшие заключенные переодевались в гражданское из немецких магазинов и складов, проходили медосмотр и три раза в день до отвала ели американскую тушенку, хлеб и колбасу. И всю эту неделю Великоречанин искал, кому бы доложить, что оп выполнил приказ капитана Панченко, рассказать, что было в «больнице», однако его никто не спрашивал. Несколько раз он подходил к американцам, начинал растолковывав, но его хлопали по плечу, смеялись, радовались и… не понимали.
Спустя неделю освобожденных построили и на нескольких языках повторили один и тот же вопрос: кто желает поехать в Америку? Над шеренгами измученных, сгорбленных людей долго висела тишина. Изредка, когда кто-нибудь выходил, строй нарушался. Короткое крыло шеренги качалось, смыкаясь и заполняя просвет, будто иссохшие колосья под внезапным порывом ветра. Из семисот человек набралось едва ли с десяток желающих. Их куда-то проводили, а остальных построили в походную колонну и повели на восток. Больных, истощенных и раненых тихим ходом везли в крытых брезентом машинах. Почти все оставшиеся в живых «доноры» ехали с Сашкой в одном кузове. Дорога была утомительной, пассажиров клонило в сон, и они спали целыми днями, вставая лишь на остановках, когда раздавали пищу. Великоречанин за весь путь не мог сомкнуть глаз. Натренированная за годы заключения и отягощенная грузом пережитого память, будто комья залежалой земли, выворачивала прошлое.
На четвертый день колонна остановилась возле шлагбаума. Бывших узников снова развернули в шеренги и еще раз задали вопрос: кто желает поехать в Америку?
— Домой! — разноязыко закричали шеренги. — Домой…
В это время к шлагбауму подлетела машина. Офицер, сопровождавший освобожденных, вытянулся и отрапортовал. Из машины появился гражданский в широкополой шляпе и стал о чем-то беседовать с офицером. Шеренги притихли. Великоречанин почуял неладное: что-то настораживающее было в разговоре американцев. Они часто поглядывали на освобожденных, словно выискивая кого-то, и озабоченно совещались. А с другой стороны к полосатой жерди шлагбаума уже шли военные в широченных галифе. Наконец офицер взял какой-то список и начал называть номера.