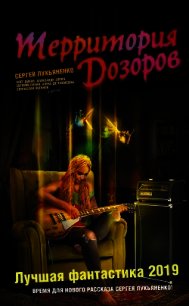Поворот рек истории - Дивов Олег (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Генуэзец с трудом разомкнул уста, постоял с открытым ртом, не решаясь заговорить, а потом все-таки произнес:
– Как мне склонить твою память, князь, к тому, чтобы она послужила тебе наилучшим образом?
На лице его отразилось борение. Он как будто проклинал себя за свою слабость и приготовился взять только что сказанные слова назад, но… пока что не брал.
«Ага, вот уже и князь, а не «варвар»…»
Князь тяжко вздохнул. Он не торопился, давая генуэзцу утвердиться в собственной слабости.
– На то, скажу тебе, мятежник, есть иной древний закон. И тоже существует он от начала Руси. Ведомо лихой человек не заслуживает снисхождения, а единожды оступившийся может получить ослабу. Каков ты, я теперь не ведаю. Были бы послухи, люди доброго состояния, доверия достойные, кои высказались бы за тебя, тут бы и делу конец. Но кто будет за тебя послухом? К кому мне ухо приклонить? Товарищи твои, латиняне, чай, солгут, желая тебя спасти. А прочие служильцы разорвать тебя готовы… Разве что владыка… ему поверю. Ты ему не враг и не друг, а случайный человек. Как он скажет, так тому и быть. Хочешь ли, он за тебя передо мной предстательствовать будет?
Друнгарий, поняв, что его ведут по какому-то неясному пути, а иные дороги заперты, просто склонил голову в знак согласия.
Тогда Глеб Белозерский обратился к митрополиту:
– Владыко, имеешь ли желание печаловаться о судьбе раба Божия Крестофора Колуна?
Герман нахмурился, помотал головой сердито:
– Нет, не имею такового желания. Нимало не имею!
Апокавк посмотрел на него с удивлением, подсудимый с горечью, прочие с непониманием. И только стратиг сохранил полнейшее хладнокровие.
– Отчего, владыко?
– О дурном человеке к чему печаловаться?!
– В чем скверна его?
Генуэзец пробормотал:
– Какие-то… недостойные уловки… – Но никто его не услышал, и, кажется, он и сам не очень желал, чтобы его услышали.
– Порушил девичество рабы Божьей Марии, наставил ее на обман и сам обманул, мужем ей не став.
– Растление девицы – грех и дурно. В том ему бы покаяться своей, латинской власти церковной. Но, может, искал он стать ей законным супругом, да не успел, нашим правосудием запертый?
«Вот, значит, куда они гонят зверя…» – сообразил Апокавк.
– То было бы по-христиански, и я молвил бы за честного человека доброе слово. Но ты бы вспросил его, княже, любит ли девицу и желает ли супругой ее сделать?
– Ответствуй, мятежник, добрый ли ты христианин?
Генуэзец окаменел. Только глаза его вращались, отыскивая, кажется, как бы выскочить из глазниц. Друнгарий издал хрип, похожий на орлиный клекот. Дар речи покинул его.
– Не гневи напрасно, ответствуй! – нажал князь.
Друнгарий сипло каркнул:
– Низкая кровь…
– Колеблешься, стало быть? Ну так и я вместе с тобой колеблюсь, – как ни в чем не бывало, заговорил Глеб Белозерский. – Я тебе помогу, авось впитаешь истину Царства нашего вполне. Оба вы крещены. Оба вы на ложе миловались с радостию, и в те поры никто о крови не думал. Но кто вы такие? Она – дочь князьца таинского, значит, не простой человек, а знатный. А ты кто таков? Сын шерстянщика, пошлого торгового человека, своими трудами да милостью государевой от гноища к высотам поднятый. Так кто кому честь делает: княжна купцову чаду или купцово чадо княжне? Я, благородного Рюрика потомок, на вас обоих гляжу якобы с вершины великой на подножье. Но в женах у меня сестра старейшая твоей, мятежник, невесты. Породнимся же, жбан фряжский, покуда милостив я и позволяю свадебным нарядом высокородной девицы грехи твои покрыть. Понял ле?
Начинал говорить наместник спокойно, но чем более высказывал мысли свои, тем более распалялся. И к концу разъярился так, что слова его вылетали из уст, словно львиный рык.
– Да… – прошептал генуэзец.
– Громче! Все должны слышать! – рявкнул князь.
– Да! Я хочу жениться.
Тогда вступил в дело Герман:
– Буди милостив к нему, княже. Вот мое слово пастырское.
– Будет ему моя милость. Будет! Пока не сведаю, что свояченицу мою хоть в малом обидел. Помысли о себе, фрязин неверный, восхочешь ли обижать ее сего дни, назавтрее, или через год, или через десять лет… В ее счастии – твоя жизнь. А ты, владыко, готовь свадебку. Поста никоторого нет, венчаться нонче же велю, пир у тебя, милосердого пастыря, на подворье. Иноков помоложе на посылки разгони, дабы им не в соблазн празднование свадебное пошло. А третьего дни дела друнгарские мятежник наш новому друнгарию сдаст. Все ли ладно? Нет, не все. Светлейший патрикий… имеешь право на царский суд…
«Вспомнил наконец-то! Вежлив… Или с Москвой ссориться не желает».
– Станешь ли оспаривать волю мою?
Апокавк помолчал для солидности. Для себя он давно решил: князь с митрополитом устроили судьбу латинянина-бунтовщика с ловкостью и весельем, тупая казнь – всегда хуже. Поэтому…
– Нет, не стану. Мое слово: воровское дело вершено по закону и справедливости.
32
Всем хороша вышла свадебка, токмо жених сидел, нос повесив. Да и он, благодаренье Богу, ближе к ночи малость повеселел. Хороша, видать, раба Божия Мария в тех делах, о коих мне, иночествующему смиренно, не надо бы ни знать, ни думать.
Одному не порадуешься: крестишь их, крестишь, закон и обычай христианский им объясняешь, объясняешь, а все нехристи. Крещение святое принял, почитай, один тайно на десять. И то – хлеб. Родня невестина – вся с крестами ходит и вся на свадебный пир пришла. И вот как ты вразумишь рабу Божию Марию, что ей под венец полуголой идти нельзя, а надобно в платье, которое ей, бедняжке, страсть как неудобно, и бедра краскою разрисовывать тож не надо, да и ягодицами зазывно шевелить, идучи вокруг алтаря, не след, когды отец ее, и мать, и братовья, и прочие племенники едва ли не в полной наготе явились, да еще ей кричат: «Прелесть покажи! Прелесть покажи!» – и иное таковое, что сказать неудобно. Вот как? А когды по-русскому обычаю зерном обсыпать их стали, так семья невестина все до единого зернышка с полу собрала и вернула – что за поверье у них дивное насчет зерна, в толк не возьму!
Ничего… Бог поможет, все похристианятся в полную меру и поромеятся до конца.
Вот те же каталонцы – народ давно во Христе живущий, а по сию пору дикий. Потому, когды молодых деньгами обсыпать стали, – тож по нашему обычаю – головорезы Рамоновы сей же миг с резвостью серебрецо собирать кинулись, но ничего не вернули.
Кто ж из них дичее?
А свадебка хороша вышла. Все зло забыли, ей предшествующее. Славен Господь!
33
«Хотя и нахожусь далеко от ваших мест и не принимаю участия в твоем благом сообществе, которое изо всех красот вашей фемы считаю прекраснейшим, изысканнейшим и драгоценнейшим, однако память и очарование нашей доброй дружбы остаются у меня в душе, и временами ты стоишь почти что рядом со мною. Терзается душа моя, желая быть возле тебя; но долгота столь великого пути и бескрайнее море Ромейское не позволяют мне лететь к тебе, и я сижу, только что не проливая слез из глаз, едва вспомню о тебе. Пускай же вместо меня устремится к тебе хотя бы мое послание; сознаю недостоинство подобной замены, однако обстоятельства судьбы ничего большего мне, к несчастью, не позволяют.
Не могу отказать себе в живейшем душевном удовольствии: рассказать о последних шагах, совершенных во закрытие врат всего опасного приключения, связанного с известной тебе книгой. Яд ее более не принесет никакого вреда. А был он воистину опаснее многотысячных армий турецких!
Ведь что есть наша Империя? Мягкость нравов, достигаемая просвещением и добрым воспитанием, столь отличная от сурового поведения варваров, особенно же язычников. Покой и безмятежность находящегося внутри имперских границ мира, каковые достигаются силой меча и мудростью правителей наших, а также их советников-философов. Главенство закона, позволяющее мирно завершать любые внутренние столкновения. К этим трем элементам следует добавить четвертый, быть может, наиболее важный: неподвижность всего здания Империи. Держава наша не может быть абсолютно неизменной, поскольку природа и нашествия варварских племен являются постоянным источником испытаний, каковые посылает ей сам Господь; не учась из поколения в поколение разнообразным навыкам и приемам, с помощью которых следует отражать натиск природный и человеческий, невозможно сдержать его; но сам процесс учебы приводит к обновлению, изменению; таким образом, изменения неизбежны. Однако они не должны быть скорыми, спешными; быстрая перемена законов и учреждений губительна, она смущает умы, она зовет сердца к мятежу. Неподвижность здания Империи – есть образ, удерживаемый каждым поколением, и он представляет собой результат медленности в изменениях: все сколько-нибудь важное развивается медленнее, чем рождается, вырастает и умирает целое поколение. Незыблемость Империи – кажущаяся, но так должно думать людям простым, ибо незыблемое уютно и притягательно в качестве родного дома.