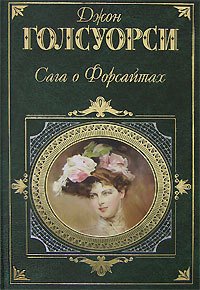Остров фарисеев. Путь святого. (сборник) - Голсуорси Джон (читать книги онлайн бесплатно без сокращение бесплатно .txt, .fb2) 📗
– А чтоб вас всех! – разразился он. – Нельзя же стоять и смотреть, как гибнет собака.
И, приспособив носовой платок вместо цепочки, он зашагал прочь, ведя за собой покалеченного пса и бросая на безобидных прохожих грозные взгляды. Теперь, когда он дал выход своим чувствам, Шелтон считал себя вправе строго судить о людях, с которыми ему пришлось столкнуться на улице.
«Скоты! – думал он. – И пальцем не пошевельнут, чтобы спасти несчастное бессловесное животное… Ну а полиция…» Но, поостыв немного, Шелтон понял, что те, кто несет тяжкое бремя честного труда, не могут рисковать целостью своих брюк или пальцев и что даже полисмен, хоть он и кажется полубогом, тоже простой смертный. Шелтон привел собаку домой и послал за ветеринаром, чтобы тот наложил ей швы.
Его уже мучили сомнения: а может быть, рискнуть и пойти на вокзал встретить Антонию? И вот, отправив слугу с собакой по адресу, указанному на ошейнике, он решил зайти к своей матери, смутно рассчитывая, что она, возможно, подскажет ему, как быть. Она жила в Кенсингтоне. Шелтон пересек Бромптон-роуд и вскоре очутился среди домов, в архитектуре которых строители, казалось, запечатлели девиз: «Блюди свое достояние – жену, деньги, дом в респектабельном квартале и все блага высоконравственной жизни!»
Шелтон шел в глубоком раздумье, глядя на бесконечный ряд домов – дом за домом, и все такие сугубо респектабельные, что даже собаки не лаяли на них. Кровь все еще бурлила в нем; иной раз прямо поражаешься, как самый незначительный случай может натолкнуть человека на размышления о самых высоких материях. Он читал как-то в своем любимом журнале статью, восхвалявшую свободу деятельности и инициативу, благодаря которым крупная буржуазия могла стать столь прекрасной основой общества, и сейчас, вспомнив об этом, иронически кивнул. «Да, инициатива и свобода! – думал он, глядя по сторонам. – Свобода и инициатива!»
Фасады всех домов выглядели холодно, официально; каждый из них служил убежищем владельцу, обладающему доходом в три-пять тысяч фунтов в год, и каждый противостоял нежелательным толкам соседей какой-то вызывающей правильностью линий. «Я горд своей прямолинейностью, во мне нет ничего лишнего, вот почему я могу смело смотреть на мир. У человека, который проживает во мне, после уплаты подоходного налога остается ежегодно всего четыре тысячи двести пятьдесят пять фунтов». Вот что, казалось, рассказывали эти дома.
Шелтон обгонял на своем пути дам, которые в одиночку, парами или по трое направлялись в магазины за покупками или же шли на уроки рисования или кулинарии, а может быть, на медицинские курсы. Мужчин на улице почти не было, а те, что встречались, были по преимуществу полисмены. Краснощекие няньки в сопровождении великого множества мохнатых или гладкошерстных собачонок везли в колясочках в парк уже разочарованных в жизни детей.
В миссис Шелтон – крошечной женщине с добрым взглядом, розовыми щечками и вечно зябнущими ногами – можно было усмотреть нечто родственное широкому либерализму ее брата: она любила, точно кошка, греться у огня, свернувшись в кресле, и всегда рада была кому-нибудь посочувствовать, не разбирая, кому и в чем. Сына своего она встретила с восторгом, расцеловала и по обыкновению тотчас заговорила о его помолвке. И, слушая ее, сын впервые почувствовал легкое сомнение; точка зрения матери раздражала его, как вид платья в голубую и пунцовую полоску: все представлялось ей в слишком уж розовом свете. Ее радужный оптимизм нагонял на него грусть – так мало он вязался с доводами рассудка.
«Почему она так уверена в моем счастье? – спрашивал он себя. – Мне это кажется прямо каким-то богохульством».
– Ах, душенька! – заворковала миссис Шелтон. – Так значит, она приезжает завтра? Ура! Я безумно хочу ее видеть!
– Но вы же знаете, мама, что мы договорились не встречаться до июля.
Миссис Шелтон покачала ножкой и, склонив, точно птичка, голову набок, посмотрела на сына сияющими глазами.
– Дик, дорогой мой, как ты, должно быть, счастлив! – воскликнула она.
Шелтон ощутил исходившие от нее волны сочувствия, которым она уже полвека одаряла всевозможные браки – и счастливые, и несчастливые, и средние.
– Я думаю, мне не следует ехать на вокзал встречать ее, – мрачно сказал Шелтон.
– Не унывай! – сказала мать, и от этих ее слов сын совсем упал духом.
Эти слова: «не унывай» – целительный бальзам, который помогал ей бездумно и радостно переносить все невзгоды, – казались ему столь же бессмысленными, как вино без букета.
– Как ваш ишиас? – спросил он.
– О, совсем плохо, – ответила миссис Шелтон. – Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Не унывай! – Она вытянула ноги и еще больше склонила набок головку.
«Удивительная женщина!» – подумал Шелтон.
И в самом деле, подобно многим своим соотечественникам она упорно не замечала темных сторон жизни и, наслаждаясь со спокойной совестью всеми благами общепринятого жизненного уклада, сохранила душевную молодость и наивность тридцатилетней девственницы.
Шелтон ушел от нее, так и не решив, надо ли ему встречать Антонию. До самого вечера он не находил себе места.
Следующий день – день ее приезда – был воскресеньем. Еще раньше он обещал Феррану пойти с ним послушать одного проповедника, который выступал в трущобах, и, готовый ухватиться за что угодно, лишь бы избавиться от гнетущего волнения, он решил выполнить свое обещание. Этот проповедник-любитель, по словам Феррана, весьма оригинально распоряжался теми деньгами, которые ему удавалось собрать: мужчинам из своей паствы он не давал ничего, некрасивым женщинам – очень мало, а хорошеньким – все остальное. Ферран сделал из этого соответствующий вывод, нo ведь он был иностранец, тогда как англичанин Шелтон предпочитал думать, что проповедником руководит чисто абстрактная любовь к красоте. Говорил он, во всяком случае, так красноречиво, что, выйдя из церкви, Шелтон почувствовал тошноту.
Еще не было семи часов; чтобы как-то убить оставшиеся до приезда Антонии полчаса, Шелтон пригласил Феррана зайти в итальянский ресторанчик, заказал для него бутылку вина, а для себя чашку кофе и, закурив папиросу, продолжал сидеть молча, крепко сжав губы. Сердце у него замирало странно и сладко. Ферран, и не подозревавший о том, что творится в душе Шелтона, спокойно пил вино, крошил в пальцах булочку и, выпуская дым через нос, с явной насмешкой разглядывал ряды столиков, дешевые зеркала, люстры, ярко-красный бархат обивки. Его сочные губы, казалось, шептали: «Э, знали бы вы, сколько грязи под этим блестящим оперением!» Шелтон брезгливо наблюдал за ним. Хотя одет он был теперь вполне прилично, ногти у него были не очень чистые, а концы пальцев желтые, словно желтизна пропитала их до самых костей. Худосочный официант, в рубашке четырехдневной давности, с жирными пятнами на одежде, стоял, перекинув через руку измятую салфетку, и, облокотившись на стойку, где красовались вазы с фруктами сомнительной свежести, читал итальянскую газету. Он устало переминался с ноги на ногу – олицетворенное переутомление! Когда же он двигался, каждый мускул в нем словно бросал упрек убогой роскоши стен. В дальнем углу зала сидела за столиком дама: в зеркале напротив отражались ее шляпа с перьями, круглое плоское лицо, покрытое толстым слоем пудры, черные глаза, – и, глядя на нее, Шелтон почувствовал непреодолимое отвращение. А его спутник пристально рассматривал ее.
– Извините, мосье, – сказал он наконец. – Мне кажется, я знаю эту даму!
И, встав из-за столика, он пересек зал, подошел к даме, поклонился и сел с ней рядом. С чисто фарисейской деликатностью Шелтон отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону. Но Ферран почти тотчас возвратился, а дама встала и вышла из ресторана – она плакала. Ферран весь покраснел, лицо его искривила гримаса; больше он не притрагивался к вину.
– Я был прав, – сказал он. – Это жена одного моего старого приятеля. Я хорошо знал ее когда-то.
Он был взволнован и расстроен, но человек, не столь поглощенный собственными мыслями, как Шелтон, пожалуй, уловил бы в тоне Феррана удовлетворение, словно он, как гурман, любящий смаковать самые разные блюда, какие подносит ему жизнь, радовался тому, что может подать своему покровителю новое, приправленное трагедией кушанье.