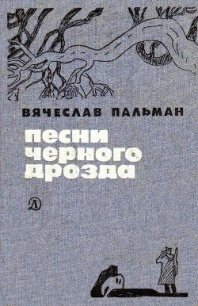Порою блажь великая - Кизи Кен Элтон (книга бесплатный формат .TXT) 📗
Последняя ночь идеально годилась для реализации этого метода: мужики начали пить рано и к ее прибытию набрались достаточно, а потому почти не возникало нужды тратить собственные деньги на выпивку. За какой-то час двое старых ее дружков за разными столиками поинтересовались, пo-прежнему ли у нее постелено то котиковое одеяло, а один молоденький рыбачок, едва-едва за сорок, заметил, что ей не грех было бы содрать ракушки с киля… идеальная ситуация!
Но вдруг она отвлеклась от своих крупнотоннажных амуров и рухнула на стул так, что тот скрипнул. Где-то какие-то двое мужчин говорили о Генри Стэмпере: видали его в больнице, и старый ящер выглядел так, будто решил наконец прикупить клочок землицы. Конечно, она понимала со всей фатальной уверенностью, что старик не будет жить вечно… но лишь когда услышала то же от других — уверенность стала фактом. Генри Стэмпер собирался на выход, уже весьма скоро; последний истрепанный обрывок ее зеленоглазого дровосека отбывал в небытие…
И, осознав это, она вдруг поняла, что больше ей не хочется завлечь домой кого-то из этих мужиков в «Коряге». Даже того отважного рыбачка. Подавленная сама, все тяжелее давила она свой стул, вертя в руке стопку, что купила как наживку для рыбака. Пришлось выпить самой, залпом. Ей нужнее. Нет мужчин впереди, не вижу ни единого на своем я пути…
И она собиралась уже заказать еще стопку, как в памяти ее всплыла старая индейская игра с ракушками, гадание на суженого — ритуал не из книг бледнолицых и не из заветов их белого бога, но из ее детства. Она громко рыгнула, отторгла свой корпус от стула и потопала прочь, угрюмая, заправленная и целеустремленная, сквозь долгую череду обезмуженных лет…
— Давно, чересчур уж давно, — ворчит она сварливым приворотом, — без мужчины до черта давно, — и снова бросает ракушки. Рассеянно потягивает тошнотворную жидкость из стакана и изучает узоры на наволочке. Узоры все приятней взору с каждым броском. Поначалу, довольно долго, в них не было ничего. Просто россыпь раковин. Потом появился глаз, и все подмигивал, от броска к броску. Потом два глаза, а там и нос! И вот уже шесть или семь раз проступает все лицо — и яснее с каждой новой попыткой!..
Она собирает ракушки и медленно кружит руками над наволочкой:
— Давно, чересчур уж давно… эта кровать без мужчины давно…
В городе Главный по Недвижимости Хотвайр наконец дозванивается до этого гадского юриста в Портленде и узнает, что все обстоит еще хуже, нежели опасалась сестра…
— Все, сестрица! Не только страховку, он все ей отписал! — Даже синематограф, каковой непременно должен был вернуться под крылышко Хотвайра через полгода. Он трясет головой перед сестрой, сидящей через стол от него. — Она получает все. Этот червяк точно из ума выжил. Не плачь, Сисси, мы, конечно, будем драться. Я сказал этому ниггерскому сутяге, что мы не будем спокойно смотреть, как его черно…
Внезапно он осекается, уставившись на деревянную фигурку, недорезанную покамест его ножиком… Черт! А эта семейка из Калифорнии, что грозится арендовать его незанятые четырехкомнатные пенаты в Нагамише?.. Вот был бы недурной улов и навар. И — черт снова! — эти два письма, в которых его просят сдать комнаты на втором этаже, прямо над его конторой… те клиенты ведь точно не высылали ему своих фотографий! Черт и дважды черт! Почему б не оставить человека в покое, не отвлекать, не сбивать с этой безумной крысиной гонки? Что, теперь так и будут вползать к нему в контору и проблемы создавать, когда хорошие времена — прямо за поворотом? Чертова стая призраков прошлого… сгинь, сгинь! Он швыряет фигурку в мусорную корзину, вслед за стружкой… ну уж про этот акт геноцида против цветного Джонни Красное Перо — точно никто не пронюхает, верно?
Как раз когда Симона ввергла в опалу свою докучную статуэтку, затолкав ее вглубь самой верхней полки гардероба и заткнув старым венчальным платьем; почувствовав наконец-то избавление от божественной помощи идола… Какой теперь прок ей в том идоле? Что понимает непорочная Дева в предохранительных гелях? Или — в полоскании горла листерином? Или — в холодных кистах, что морозными пузырями надуваются под кожей, стылая пустота, оставшаяся после того, как ты отринула раз и навсегда Добродетель, Раскаяние и сам Стыд? Не смеши меня, куколка Мария!..
Как раз когда Рэй наконец встает и идет к чумазой раковине в углу их номера, бросив попытки прояснить это утро воспоминаниями. Ставит тазик с потрескавшейся эмалью на горячую электроплиту за шахтой вентиляции, садится на жесткий стул, закуривает, глядит на Рода, ворочающегося в кровати, играющего свои рок и роли храпом на три четверти.
— Родни, старина… — шепчет Рэй. — Знаешь, не так уж ты и лажал с ритмом, в целом. Как бы я тебя ни гнобил. Порой тормозил ты немного, порой гнал, но в целом попадал довольно близко. А у меня ведь, парень, ритм четкий, как часики. И слух абсолютный, знаешь? О, я не рисуюсь, просто говорю, что есть. Напрямки. В смысле, я знаю, что оно есть… вот как прошлой ночью, когда все было ништяк, как лучше не бывает, чаевые, заказы… и ничто не мешало мне взмыть, улететь, понимаешь, парень? Чистая дорога, «Небо мне улыбнется», и ничего не мешало на пути! Ни! Единой! Засады! Род, друг, — ничего такого, что мешало мне взбежать по склону к трону и воссесть королем горы!
Он умолкает. Часы тикают. Он тушит сигарету в кляксе чили на тарелке, встает. Прислушивается к злобному бульканью воды в эмалированном тазике. Подходит к кровати, достает гитарный футляр из-под шкафчика, раскрывает. Вынимает инструмент, кладет его на пол подле футляра… потом какое-то время просто стоит, созерцая изящные изгибы деки, жемчужный лак, ладный вишневый гриф, разлинованный медными порожками и шестью параллелями блестящей стали… чертовски хороша, гармоничная такая штука: свобода, стиль и строй. Улыбается гитаре, закрывает глаза и прыгает на нее обеими босыми ступнями. Струны визжат, дека трещит. Чертовски хороша, чертовски, лапочка… Он высоко подскакивает. И нет оправданий тому, кто и на такой лапочке не взлетел…
Густой звонкий грохот. Род поворачивается, изгнанный из храма своего храпа, и видит, как сосед по комнате прыгает на торосистых руинах своей гитары.
— Рэй! — Род выпутывает ноги из одеяла; Рэй обращает к нему лицо, опустошенное и сонно умиротворенное в одно время… — Рэй, старик, постой! — Но прежде чем он успевает остановить друга, Рэй кидается через комнату и сует обе кисти по запястья в бурлящий кипяток…
Ли просыпается от вопля, однако поначалу готов простить шум: два музыканта в номере напротив опять поругались, наверно… но затем — грохот, снова вопль, беготня по коридору, крик, распахиваются двери… что ж, еще одно кошмарное «доброе утро».
Он встает и поспешно одевается, пришпоренный любопытством до таинственной драмы — впервые за три последних дня. После исхода из дома он, прерываясь лишь на еду, проводил почти все время в постели: читал, дремал, просыпался… порой — пробужденный прикосновением изящных прохладных пальцев… лишь с тем, чтоб, открыв глаза, обнаружить: в номере опять слишком душно, а пальцы — лишь ручейки пота… он переворачивался на другой бок, дремал — и снова ждал.
А порой озадачивался в своем пассивном ступоре: что, если и эти изящные пальцы, и их изящная, воздушная хозяйка — лишь фантазия, навеянная жаром?…
К тому времени, как он оделся и дошел до вестибюля, менеджер и его сынишка-подросток уже помогли музыканту загнать взбеленившегося товарища в телефонную будку. Род в спешке натянул джинсы Рэя, и те до нелепого туго облегают бедра и талию. Род что-то шепчет в будку, тихо и просительно. Ли, стоя на лестнице, видит сверху другого парня: тот сидит, заблокировав дверь изнутри коленками, голова склонена набок почти кокетливо, будто он любуется двумя ошпаренными кистями, что держит на весу перед собой. Ли смотрит, как собирается небольшая толпа. Время от времени Род оглядывается через плечо и объясняет вновь прибывшим: