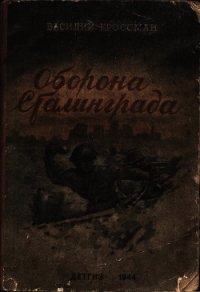За правое дело (Книга 1) - Гроссман Василий Семенович (книги бесплатно без онлайн txt) 📗
Ковалёв раскрыл полевую сумку и предался рассмотрению своего походного имущества. Чтобы обезопасить себя от насмешливых взглядов, он разложил карту-двухкилометровку и, якобы изучая её, стал вынимать содержимое сумки. Здесь хранились свидетели его жизни, короткой, бедной и чистой. Кисет с красной звездой, сшитый старшей сестрой Таей из пёстрых лоскутков, из рукава её некогда нарядного платья. Это платье он помнил, когда был восьмилетним ребёнком. Тая в нём праздновала свою свадьбу со счетоводом Яковом Петровичем, приехавшим к ним в деревню из районного центра.
Когда Ковалёва спрашивали «Ого, брат, откуда у тебя такой кисет богатый?» — он отвечал: «Да так, мне сестрёнка подарила, когда ещё в школе лейтенантов был».
Затем посмотрел он маленькую тетрадь в коленкоровом переплёте, с потёртыми краями и со стёртой, когда-то золотой надписью: «Блоккнижка», подаренную ему учителем при переходе в седьмой класс сельской школы. В тетрадку были вписаны великолепными овальными буквами стихи и многие песни. Были тут и «Знойное лето», и «Гордая любовь моя», и «Идёт война народная, священная воина», и «Катюша», и «Душе моей тысячу лет», и «Синенький, скромный платочек», и «Прощай любимый город», и «Жди меня».
Были в эту книжечку вложены четыре билета на метро, билеты в Музей Революции и в Третьяковку, билет в кино «Унион», билет в Зоопарк, билет в Большой театр — память о двухдневном посещении Москвы в ноябре 1940 года.
Первую страницу занимало аккуратно переписанное стихотворение Лермонтова, и слова «на время не стоит труда, а вечно любить невозможно» были жирно и аккуратно подчёркнуты синим и красным карандашом.
Затем он вынул вторую тетрадку, в неё он вписывал конспекты по тактике, тактические задачи. По тактике он шёл отличником, единственный в группе, и этой тетрадкой гордился.
В целлофановую бумагу была завёрнута фотография скуластенькой девушки с сердитыми глазами, с вздёрнутым носом и мужским ртом. На обороте имелась надпись чернильным карандашом — «Не в шумной беседе друзья узнаются, друзья узнаются с бедою, коль горе нагрянет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобою На долгую память от Веры Смирновой». А в правом углу был очерчен четырёхугольник и в него вписано мелкими печатными буквами: «Место марки целую жарко».
Ковалёв снисходительно усмехнулся, вновь завернул фотографию в целлофановую, похрустывающую бумагу. Затем он извлёк из сумки материальные ценности, бумажник с пачкой красных тридцаток, сиреневый кошелёчек, в котором хранились два запасных кубаря для петлиц, немецкую трофейную бритву, трофейную зажигалку, красный галалитовый карандаш, металлическое круглое зеркальце, компас, массивный складной нож, имеющий вид плоского танка, невскрытую коробку папирос.
Он посмотрел вокруг, прислушался к далёкому гулу и к близкой тишине, разрезал ногтем бандерольку на коробке и закурил, потом оглянулся на подошедшего старшину Марченко, ставшего теперь, после ранения политрука, его ближайшим помощником, и сказал:
— На-ка закури, — и, покосившись на разложенное добро, добавил: — Вот, затерял запалы для гранат, всю сумку перерыл.
— А чего их шукать, вон их полно принесли, — сказал: Марченко, осторожно взял двумя пальцами папиросу и прежде чем закурить, повертел её, оглядев со всех сторон.
Только придя в Сталинград, Пётр Семёнович Вавилов во всей глубине понял и почувствовал войну.
То, что слышал он от красноармейцев, и то, что выспросил он у беженцев, и то, что рассказывал на политбеседах политрук, и то, что вычитал он в газетах, которые читал день за днём, — всё это, существовавшее в его сознании не слитно, соединилось теперь в единое целое.
Всё это было связано с его жизнью, с постелью, на которой он спал, с хлебом, который он косил, с его женой, детьми, с его родной землёй, с его любовью к труду, с его судьбой.
Огромный город был убит, разрушен. Некоторые дома после пожара сохранили тепло, и Вавилов в сумерках, стоя на часах, ощущал жар, ещё дышавший в глубине камня, и ему казалось, что это — живое тепло людей, недавно ещё живших в этих домах.
Ему не раз приходилось бывать до войны в городах, но только здесь, в разрушенном Сталинграде, обнаружился и стал виден огромный труд людей, строивших город.
Как нелегко было в деревне во время войны добыть малое оконное стекло, шпингалеты для больничных окон, навесы для дверей, железную балку, понадобившуюся при ремонте мельницы. Гвозди при стройке давались счётом, а не по весу, так мало их было. Сколько труда потратили в колхозе, когда настелили в школе новый пол, как радовались, когда покрыли железом школьный дом!
Развалины города раскрыли огромное богатство, затраченное при стройке домов тысячи листов смятого огнём кровельного железа валялись на земле, дефицит — кирпич — мёртвыми холмами загораживал улицы на сотни сажен, тротуары блестели в стеклянной чешуе. Казалось, таким количеством стекла можно было наново остеклить всю колхозную Россию. Перегоревшее, сжёванное пожаром железо, мягкие, потерявшие в пьяном огне силу гвозди, шурупы, дверные ручки валялись тысячами, огромные, погубленные стальные рельсы и балки, прогнутые, порванные, закрученные злодейской силой немецких бомб...
Сколько пота затратили люди, чтобы из горной породы, песка, из руды извлечь стекло, камень, железо, стальные балки, медь. Тысячи и тысячи артелей каменщиков, плотников, маляров, стекольщиков, слесарей десятки лет с утра до заката работали здесь.
Какое мастерство видно было в кладке кирпича, как хитро, сложно выкладывались лестничные клетки, какая силища была в капитальной кладке треснувших стен Гладкий асфальт был разрыт — темнели бомбовые ямищи, такие, что в них можно было сложить стог сена. Эти ямы разъели гладь площадей и улиц, и обнажился второй город, подземный, — толстый телефонный кабель, водопроводные трубы, котлы парового отопления, выложенные бетоном колодцы, переплетения подземных проводов.
Сокрушение величайшего труда! Казалось, пьяные мордатые злодеи издевались над тысячами рабочих людей. А те, кто жил в этих домах, встретились Вавилову в заволжской степи, обессилевшие старухи, женщины с младенцами, сироты, старики. А сколько их лежало под кирпичными холмами!
— Вот это Гитлер, — произнес протяжно вслух Вавилов, и всё время эти три слова звучали в его ушах: — Вот это Гитлер...
Мерцающее облако с утра стояло в воздухе — прах искромсанных снарядами кирпичей, серая пыль, поднятая с неметенных городских площадей взрывами мин, снарядов и тяжким шагом подкованных сапог.
В полуденном, струящемся воздухе немецкие солдаты-наблюдатели, взобравшиеся на верхние этажи разбитых домов, увидели через пустые глазницы окон реку, поразившую их своей красотой: Волга голубела, отражая безоблачное небо, широкий, напоминавший море простор её сверкал на солнце. Влажное, чистое и нежное дыхание реки обдувало потные лица солдат.
А по улицам, среди горячих, пустых каменных коробок шли германские войска; самоходные пушки, броневые автомобили, танки со скрежетом делали на углах крутые повороты; мотоциклисты в распахнутых мундирах, без фуражек и пилоток кружили по площади, охваченные весёлым пьяным безумием.
Пыль смешалась с дымом походных кухонь, запах гари — с запахом горохового супа.
Автоматчики, покрикивая и весело замахиваясь, вели пленных в кровавых, грязных бинтах, перегоняли на западную окраину бледных, растерянно озиравшихся жителей: женщин, детей, стариков.
Пехотинцы офицеры то и дело щёлкали фотографическими аппаратами и, не доверяя памяти, вытаскивали записные книжки, делали пометки — каждая из этих книжек должна была стать семейной реликвией, памятью славного дня для внуков и правнуков.
Солдаты с серо-каменными, пыльными щеками, облизывая сухие губы, входили в дома, гулко ступая по уцелевшим паркетным полам брошенных квартир, стучали прикладами автоматов в стены, заглядывали в шкафы, встряхивали одеяла.
И как не раз это происходило — солдаты совершенно непонятным, чудесным способом находили среди развалин бутылки русской водки и сладких вин.