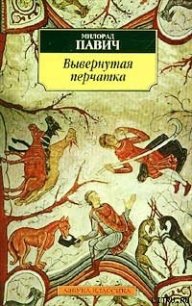Разноцветные глаза (сборник) - Павич Милорад (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Как раньше я ждал своего отца, так теперь, втайне от Шабановичей, ждал галеру, с которой должен был прибыть Вид. Я волновался и все никак не мог спрятать лицо от лучей заходящего солнца за крестом мачты вытащенного на берег корабля. Я пытался укрыть свои глаза за пересечением мачты и реи, но у меня ничего не получалось: лучи выбивались то выше, то ниже реи, и наконец я понял – причина в том, что я дрожу. В сумерках причалила галера, но Вида на ней не было, вместо него на берег вышла одна очень молодая женщина, на которую я сразу же обратил внимание, потому что, спрыгивая вниз, она поддерживала свою грудь. Она побежала вперед, продолжая держаться за грудь, потом оглянулась, я, как когда-то давно, перебросил через ее голову дукат, который упал перед ней на дорогу. Она наступила на него и повернулась ко мне. Я заплатил ей за одну ночь и дал ей столько же за другую, но уже не со мной. Я сказал ей, чтобы она отправилась в Коринф, нашла там Вида, сына Ерисены, и провела ночь с ним.
– Ты была со мной и меня уже знаешь. Когда проведешь ночь с Видом, будешь знать нас обоих. Если сумеешь понять, сын он мне или нет, возвращайся назад и в любом случае получишь еще столько же. Если он мой сын, пусть приедет с тобой, если нет, то не надо. Я чувствую, что с этим человеком связана какая-то тайна.
Женщина согласилась, а я наконец взял себя в руки и сел за письмо к вашей светлости в Дубровник, чувствуя себя счастливым оттого, что прошу у вашей светлости взять к себе на службу моего сына, чтобы он, если Бог даст и Мария Благодатная даст, служил вам еще лучше, чем я, ваш нижайший слуга Кувеля Грек. И я был счастлив, что нить нашей семьи не прерывается, как гнилая веревка, и что на службе вашей пресветлой республики будет еще один Кувеля, четвертый в этом столетии, сын мой Вид. А я склоню голову себе на руки и буду одной болезнью болеть, а другой опасаться. Письмо было уже готово, и я ждал только подтверждения моих надежд и приезда сына. Но мне пришлось порвать письмо, хотя оно стоило мне большого труда из-за моих помутневших глаз. Потому что как раз тогда, когда письмо было готово, из Коринфа вернулась та девушка и отчиталась передо мной в двух словах:
– Вид не твой сын. Он сын твоего отца Ивана Кувели. А ты не можешь иметь детей.
Когда я, пораженный известием, спросил ее, почему она так в этом уверена, она сказала, что с самого начала была послана ко мне моим отцом Иваном Кувелей из Палестины, что он заранее заплатил ей за то, чтобы она была со мной, потому что до этого она была с ним, и он решил, что она того сто?ит. Он поступил с ней так же, как когда-то поступал с Ерисеной Ризнич и многими другими женщинами, которым он платил вперед и из года в год посылал ко мне в Нови. Эти женщины, как теперь стало ясно, были единственной связью между моим отцом и мной, так же как теперь они устанавливали связь между мной и моим братом Видом. Итак, ваша светлость, вашим нижайшим слугой в будущем будет не мой сын, а мой брат, Вид Кувеля. Трезвый от вина, но пьяный и в слезах от тоски, я жду его на пристани и дрожу так, что обувь у меня развязывается. Желаю ему не посрамить своего имени, а вам, по милости Божьей, радоваться и крепить свою власть и тогда, когда меня, Кувели Грека, уже не будет на свете и не буду я стоять между двумя мечами и между двумя крестами, обмакивая перо в свечку. По-другому и быть не может. Если свет померк, как не окажешься в темноте?
Нови, 6 апреля 1667 года
P. S. Этот post scriptum пишет не Кувеля Грек, а писатель, автор книги «Железный занавес», живущий спустя три века после Кувели, в 1973 году. Донесения Кувелей, добровольцев-информаторов, которые в XVII веке из поколения в поколение сообщали сведения о событиях в Османской империи из города Герцег-Нови (который находился в те времена на территории, принадлежавшей туркам) в Дубровницкую республику, и сегодня хранятся в архиве Дубровника под шифром Pr 1942, 1–185. Однако это письмо Кувели Грека так никогда и не попало в руки дубровницкого князя и других лиц, которым оно было предназначено. Письмо оказалось адресовано мертвым. Оно написано 6 апреля 1667 года, как раз в тот день, когда страшное землетрясение разрушило Дубровник и погубило друзей Кувели. Его брату Виду так никогда и не пришлось служить Дубровницкой республике.
Сошествие в лимб
Однажды вечером, в 1971 году, как раз когда в Белграде проходила Международная октябрьская встреча писателей, явился мне во сне Венцлович. Чтобы понять этот текст, надо иметь в виду, что я родился в 1929 году и что Гавриил Стефанович Венцлович (ок. 1680–1749?) – это сербский писатель, проповедник, художник и замечательный стилист, чей объемный труд оставался неопубликованным в течение двухсот тридцати лет. Нас связывает то, что я пытался сделать достоянием читателей хотя бы часть из оставшихся после него двадцати тысяч рукописных страниц. Я написал биографию Венцловича, опубликовал его избранные рассказы, проповеди и стихотворения, включил в «Палимпсест» посвященное Венцловичу стихотворение и подготовил для театральной постановки одну его драму, которая с незначительным успехом шла в 1971 году на сцене белградского Современного театра. «Избранное» Венцловича я сопроводил его собственными иллюстрациями, в числе которых была и одна буквица в стиле старинных сербских печатных книг с изображением лика Христа с раздвоенной бородой, которая, по всей вероятности, является идеализированным автопортретом.
Однако во сне Венцлович предстал передо мной не в этом известном по опубликованному автопортрету облике. Во сне у него были светлые волосы – на моей кровати сидел, не отбрасывая тени, человек, охрипший от длительного молчания и одетый в длинную кудрявую бороду. Перед тем как исчезнуть, он задумчиво посмотрел на меня, и через его взгляд можно было увидеть, в какую сторону течет Дунай. Я сразу его узнал, мгновенно понял, что это он, хотя, повторяю, он совсем не был на себя похож. Наоборот, он мне напомнил другого человека.
Октябрьская встреча продолжалась, и, участвуя в дискуссиях, я понял, что не хочу признаваться себе в том, что образ Венцловича из моего сна повторяет образ одного молодого македонского поэта, с которым я (через какого-то общего знакомого) имел весьма поверхностное знакомство, перешедшее впоследствии в почти враждебное безразличие друг к другу. В тот день македонец взял слово, причем тема, которую он выбрал, и аргументация, которой он пользовался, настолько противоречили тому, что незадолго до этого говорил я сам, что и я, и все остальные восприняли сказанное как косвенную полемику с моим выступлением.
После этого я долго старался подавить и выкинуть из головы мысль о схожести македонского поэта и Венцловича. Однако я двинулся по неправильному пути, полагая, что сон должен был что-то сообщить мне о моем госте. Когда несколько месяцев спустя я попробовал посмотреть на все с другой стороны и подумал, а не приходил ли Венцлович в гости с целью получше узнать меня, значение этого неприятного сходства показалось мне настолько важным, что отмахнуться было уже невозможно. Просто следовало сделать правильные выводы на основании того, что я узнал во сне. Смысл их можно было бы свести к следующему.
Если бы Венцлович и я встретились как современники, то восприняли бы друг друга совсем не так, как через перспективу двухсот тридцати разделяющих нас лет. Другими словами, если бы Венцлович жил в XX веке и имел возможность приехать из Сент-Андреи в Белград на октябрьскую встречу писателей 1971 года, мы с ним говорили бы на разных языках и имели бы разные убеждения. Даже физически я воспринимал бы его по-другому. Скорее всего я не почувствовал бы к нему никакой симпатии.
Я понял, что объективно механизм передвижения во времени и пространстве может и меня самого поместить в какую-нибудь новую систему координат, перенеся примерно на двести тридцать лет назад, в годы расцвета творчества Венцловича. На основании того, что я узнал во сне, можно было безошибочно определить, на чьей бы стороне я оказался и как бы стал относиться к Венцловичу, будучи его современником и живя приблизительно в 1741 году. Совершенно очевидно, что, если Венцлович писал тогда на чистом народном языке, я бы оказался среди тех писателей, которые и пишут, и говорят иначе. Писатели эти, как известно, были сторонниками новой русско-славянской ориентации в сербской литературе. Я бы, следовательно, стал одним из коллег Козачинского, одним из учеников русской школы, тех, что вернулись после окончания Киевской духовной академии. Есть еще одна тонкость. Существует (правда, неподтвержденное) мнение, что Венцлович был отлучен от Церкви. Следовательно, мне бы досталась роль его противника, роль «правоверного» последователя официальной сербской церковной политики, ориентированного в то время на русские духовные центры. Цвет волос у нас с ним в то время был бы одинаковым, если, конечно, считать изображение Венцловича достоверным, а это значит, что, будучи черноволосым, я мог бы себя узнать в то время в образе писателя Дионисия Новаковича, чей портрет и проповеди на церковнославянском языке, проникнутые классицистской начитанностью и эрудицией, характерными для периода украинского барокко, дошли до нашего времени. Дионисий разделил судьбу всех тех питомцев русской школы, которые, избегая воинственных иезуитских университетов и униатских лицеев Австрийской империи, направлялись на учебу в Киевскую духовную академию, потому что здесь, в недрах православной империи, чувствовали себя в большей безопасности. Потом некоторые из них перебирались на другой берег реки Буг и отправлялись в Польшу, на учебу к иезуитам, там временно вступали в унию с Католической церковью, получали университетское образование и, в конце концов снова перейдя в христианство восточного обряда, возвращались к своему сербскому языку и народу, полные знаний, но как бы наполовину иностранцы. Моя «родословная по миссии» указывала, что я должен был бы разделить их судьбу, оказаться в их положении. Мои идеи, мой статус, мой русско-славянский язык очень сильно отличались бы от того, что было присуще Венцловичу, и неприязнь или по меньшей мере «враждебное безразличие» стали бы совершенно точной характеристикой наших отношений.