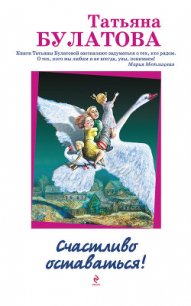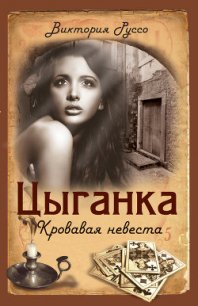Три женщины одного мужчины - Булатова Татьяна (книги без сокращений TXT) 📗
– А тебя что, Паша, моя жизнь заедает? – не осталась в долгу Кира Павловна, в эту минуту ощутившая свое абсолютное превосходство над соседкой.
– Что ты! – залопотала Устюгова. – Что ты! Так, для красного словца ляпнула, а ты уж сразу в обидки.
– Сегодня, Паша, ты для красного словца уж слишком много наляпала, – мстительно напомнила Кира, а потом вспомнила, по какому делу прибыла в соседское царство, и продолжила: – В общем, так, Прасковья, ты давай с Марусей поговори, а я с Катей потолкую. Глядишь, и сладится.
«Хоть бы сладилось! – мысленно взмолилась Устюгова и суеверно промолчала, предупредительно распахнув дверь перед подругой. – Правильно Васенька говорил, – продолжала она думать. – Хорошие они все-таки люди!»
К этой мысли Прасковья возвращалась всякий раз, когда получала что-нибудь от Вильских: приглашение к празднику, подарки на свой и Марусин день рождения, бережное отношение к памяти покойного Василия Устюгова. Но это не мешало испытывать постоянную зависть к соседям, а особенно к Кире, чьей подругой она себя называла. Благодарность и злость, простота и тайный умысел, верность и предательство странно уживались в душе этой простой женщины, обиженной на жизнь, потому что та недодала ей ни женского счастья, ни легкого хлеба.
«Одним – все, – думала Прасковья о Кире Павловне. – Другим – ничего», – вспоминала она про себя, и ей хотелось удавиться от отчаяния, но она потом спохватывалась, гнала дурные мысли и шла на рынок отвести душу. Там, стоя то в ягодном, то в галантерейном ряду, приумножала Прасковья свое богатство, откладывая каждую копеечку, чтобы ни в чем не отказывать своей хилой Марусе, составляющей весь смысл ее горького вдовьего существования.
«Утюго?ва!» – обзывали во дворе блеклую с лица Машеньку и обсыпали ее маленькую голову загаженным кошками песком.
– Прибью щас! – кричала из окна третьего этажа вездесущая Прасковья и неслась на помощь дочери, кстати, никогда не жаловавшейся на издевательства сверстников. – Чего застыла как истукан! – бросалась на нее мать и хватала за руку с такой силой, будто собиралась прибить именно ее, а не дворовых обидчиков, немедленно испарившихся. – Чего стоишь, воешь? Сдачу давай!
– Я не могу, – хныкала Маруся и пыталась высвободить руку.
– Не можешь, тогда дома сиди! – рявкала Прасковья, а потом бросалась успокаивать эту беленькую девочку и вытирала ей слезы с таким остервенением, что у той краснело под глазами.
– Мама, – вскрикивала от боли Маруся и пыталась увернуться, но и в ласке Прасковья не знала меры, так же как и в гневе, а потому зацеловывала дочь так, что та торопилась убежать в подъезд – подальше от внимательных глаз соседей.
С матерью Машеньке было неуютно. Гораздо спокойнее она чувствовала себя у Вильских, к которым ходила делать уроки и заниматься музыкой, хотя Прасковья, безусловно, могла бы приобрести для дочери инструмент. Но запретил Николай Андреевич, щадивший вдову Устюгову и искренно считавший, что Женькиного пианино с лихвой хватит для двоих.
– Ну что, Маруся? Выучила пьесу? – интересовался он, вернувшись с завода.
– Выучила, дядя Коля, – чуть слышно отвечала девочка и низко опускала голову.
– Тогда сыграй, – просил Вильский и присаживался на диван, всем своим видом показывая свою готовность приобщиться к прекрасному.
– Вэ Гаврилин. «Лисичка поранила лапку», – как только умела громко объявляла Маруся и брала первый аккорд.
– Очень хорошо, – хлопал в ладоши Николай Андреевич и звал сына.
– Нет его, – отвечала за Женьку бабушка. – Во дворе.
– Занимался? – строго вопрошал тещу Вильский.
– Занимался, – подтверждала Анисья Дмитриевна. – С Кирой…
Кира Павловна никакого отношения к музыке не имела, но это не мешало ей руководить процессом. Она со знанием дела поправляла сыну спину, руки, отбивала ногой такт и требовала артистичного поведения: «Чтоб как в клубе!»
Пробовала она «позаниматься» и с Марусей, но быстро оставила эту затею, потому что девочка никак не хотела играть по придуманным тетей Кирой правилам, в отличие от артистичного Женьки, испытывающего очевидное удовольствие от звуков собственного голоса. «Са-а-а-анта Лючи-и-и-ия! Са-анта Лючи-и-и-я!» – надрывался младший Вильский, а потом вставал из-за инструмента и старательно раскланивался перед воображаемыми зрителями.
Маруся так не могла, поэтому рядом с ней всегда садилась такая же тихая Анисья Дмитриевна, с которой Прасковьиной дочери было комфортнее всего. Женькина бабушка не лезла с советами, не прикрикивала, а молча слушала и хвалила все, что извлекали Марусины руки из несчастного инструмента.
Надо ли говорить, что в глубине души Маруся считала Анисью Дмитриевну бабушкой и страстно мечтала поменяться местами с рыжим Женькой. А потом к этой мечте добавилась другая, но о ней девочка, а потом и девушка Маша Устюгова рассказала только своему дневнику, вероломно прочитанному бестактной матерью.
Речи о том, что недалеко время, когда Кира Павловна назовет Марусю своей невесткой, Прасковья начала вести с дочерью давно. Так давно, что Маша сроднилась с этой мыслью и терпеливо ждала, когда же Вильский напишет ей из Ленинграда и скажет: «Приезжай, Маруся!» Но вместо приглашения приехать Машенька Устюгова на каждый праздник получала от Женьки красочные открытки с видами Ленинграда и пригородов. Чаще всего в них содержалась информация такого рода: «Привет из Ленинграда. У меня все хорошо, чего и тебе желаю.
Пиши».
И Маруся писала. Длинные-длинные письма, бессюжетные по сути, потому что никаких особых событий в ее жизни не было. И чтобы хоть чем-то заполнить нескромное белое пространство листа, Маша рассказывала Вильскому содержание прочитанных книг, запомнившиеся места из прослушанных лекций, описывала нюансы верейской погоды и только иногда позволяла себе что-то личное из числа стандартных формулировок: «До каникул осталось столько-то дней», «Обязательно встретимся на каникулах», «Приедешь, обязательно поговорим».
Вильский не обращал внимания на кричащие о Марусиной симпатии сигналы и даже порой не дочитывал до конца эти скучные, как ему казалось, письма. Зато их с интересом читала Прасковья, потому что дочь писала каждое письмо по нескольку дней и наивно полагала, что ее мать – воспитанный человек, никогда не читающий чужих писем.
Сама Прасковья Устюгова ничего предосудительного в том, что она прочитает одно-другое письмецо, не видела и, как только Маруся уезжала в институт, открывала ящик письменного стола, надевала очки и внимательно изучала содержимое каждого фрагмента. «Будь моя воля, – думала Прасковья, – я бы написала по-другому». Как? Она не знала, но точно знала, что иначе. В письмах дочери не было главного: страсти, которая передается на расстоянии и заставляет учащенно биться далекое сердце адресата.
Устюгова наряжала Марусю по последнему слову верейской моды, заказывала через Киру модельную обувь из Москвы, плела кружевные воротнички и жилеты, но все без толку. Платье, воротничок, жилет, шпильки существовали отдельно. Маруся – отдельно. Лучше всего, с неудовольствием признавала Прасковья, ее дочь выглядела в домашнем халатике, на фоне которого остренький носик, белесые, словно обсыпанные пылью, волосы, тоненькие ручки в синих прожилках вен смотрелись естественно. Как тут и было!
– Наряжайся! – приказывала Марусе мать и критично осматривала ее с ног до головы.
– Зачем? – удивлялась материнской настойчивости девушка, в глубине души все давно решившая. Молодые люди, обучавшиеся вместе с ней на машиностроительном факультете, ее нисколько не интересовали, ведь ее сердце уже было занято.
Конечно, полной уверенности, что она сменит фамилию Устюгова на фамилию Вильская, не было, но мать говорила об этом так часто, что перспективы оформились сами собой без Женькиного на то согласия. Старших Вильских в расчет не брали: Прасковья была уверена, что лучше невестки им не найти. Поэтому, как только молодой Вильский вернулся в Верейск, сбежав из гарантированного ему в Макаровском училище подводного рая, Устюгова начала всерьез готовиться к свадьбе, не поставив никого в известность. И чем это закончилось, уже известно.