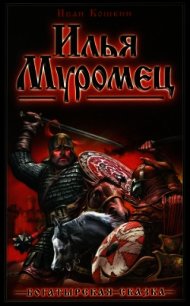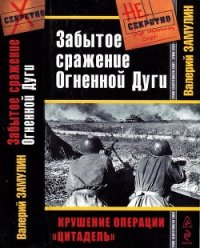За ценой не постоим - Кошкин Иван Всеволодович (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений TXT) 📗
Трифонов, бежавший чуть ли не на четвереньках по ходу сообщения, ничего этого, естественно, не знал. Зато он знал, что совершает огромную глупость, потому что если его здесь убьют, рота останется без политрука. Но где-то в глубине души уже зрело понимание: без таких глупостей грош ему цена, без них он никогда не станет комиссаром и так и будет по-прежнему терзаться над вопросами, которые Гольдберг решает в пять минут… Николай ясно различал звук немецких моторов, странно тихий, словно у грузовика, и, прибавив ходу, буквально нырнул в окоп, наполовину засыпанный сырой землей пополам со снегом. Крепкие руки вытащили его из отвратительной каши и прижали к стене, прямо перед Трифоновым возникло лицо Шумова — на редкость злое лицо. Несколько секунд гигант смотрел, словно не узнавая, и Николаю стало по-настоящему страшно, но тут истребитель танков резко выдохнул и прохрипел:
— Извиняюсь, товарищ политрук, — и добавил, словно объясняя: — Санька убили.
Напарник Шумова, засыпанный землей по грудь, сидел у стенки окопа, его лицо было закрыто каской, и прямо в темени этой каски чернела огромная и жуткая дыра, ватник на груди убитого уже потемнел от крови.
— Тебя как зовут? — спросил вдруг политрук, отчаянно надеясь, что этот простой вопрос приведет великана в чувство.
— Иван, — ответил Шумов, и лицо его вдруг как-то сразу стало обычным, только напряженным.
— А меня Николай. — Трифонов встряхнул, вернее, попытался встряхнуть бойца за плечо. — Я теперь за Санька, Ваня.
И только тут политрук понял, что гигант вне себя не от страха, а от бешенства. Он вспомнил, что как-то раз Волков обмолвился: мол, Шумов — хороший боец, но иногда от злобы становится больным. Странное дело, Николай почувствовал облегчение — ненависть великана рабочего, открытая, бьющая через край, странным образом давала сил и ему. Политрук осторожно высунулся из окопа: танки были уже в полукилометре, наши пока молчали, подпуская врага поближе. Немецкие машины шли клином: одна впереди, две другие, прикрывая, сзади, расстояние между ними на глаз — метров сто. Трифонов сполз обратно, страха он по-прежнему не ощущал.
— Передний — прямо на нас едет.
Он начал расстегивать сумку, но брезент намок, и пуговица никак не хотела вылезать из петли. Трифонов в сердцах рванул клапан и вытащил бутылку. Шумов аккуратно, словно с чего-то хрупкого, стирал с гранат бурую липкую грязь.
— Слушай, Иван, — начал политрук, сам поражаясь своему спокойствию, — пропустим его чуть-чуть, и сзади, на мотор, как говорили, помнишь?
Шумов, улыбаясь, кивнул. Он не слышал, что говорил ему молодой политрук — от взрыва уши словно забило ватой, в голове звенело. Иван понял только одно — этот парень, что-то ему взволнованно втолковывающий, собирается взрывать танк вместе с ним. Шумов еще раз кивнул и осторожно выглянул наружу. Немецкая машина — угловатая, с плоской башней, плавно покачиваясь, шла прямо на их окоп. Танк — серого когда-то цвета, был по пушку заляпан желто-коричневой грязью, он, словно принюхиваясь, повел орудием, затем остановился. Грянул выстрел, где-то за спиной у Шумова, на опушке, ударил разрыв, и железная коробка снова поползла вперед. За ней, чуть отстав, бежали люди с винтовками, в заляпанных все той же грязью ненавистных серых шинелях. Передний танк был уже в трехстах метрах, и гигант начал прикидывать — сколько времени ему понадобится, чтобы подбежать на десять метров, не больше, а лучше даже меньше, и забросить шесть килограммов гранат на моторное отделение. Как всегда, к горлу подступила ненависть, поселившаяся в нем после смерти Холмова, она давила голову, мешала думать, и Иван, набрав полную пригоршню смешанного с глиной снега, с силой вдавил лицо в мокрую грязь.
Война столкнула их — рабочего Шумова и историка, кандидата наук Холмова, как сталкивает людей очень большая беда. В казарме, забитой двухэтажными нарами, их места оказались рядом — здоровяки, да и просто те, кто тяжелее, обычно спали внизу. Шумов уже не помнил, с чего началось это знакомство, просто как-то вдруг выяснилось, что он и Холмов — почти соседи, доцент снимал комнату буквально через три дома. Наверное, на этом бы все и кончилось, но однажды на занятиях историк, получив за дело, в общем, плюху от старшины, обиды не снес и полез драться с самим Медведевым. Шумов, что рос и взрослел на улицах заводского района в веселые двадцатые годы, в людях больше всего ценил твердость характера. У доцента характер имелся. В тот же вечер они разговорились по-настоящему. Говорили долго, пока кто-то не заорал из угла, чтобы заткнулись наконец, если сами спать не хотят. С тех пор рабочий Шумов и историк Холмов беседовали часто. Шумов долго не мог понять — какая польза стране от того, чем занимаются историки. По мнению рабочего, все эти раскопки были сплошное баловство и разбазаривание народных денег. В ответ Холмов стал рассказывать, как четыре года назад они копали в степи древний курган, что стоял там полторы тысячи лет. Как однажды им не подвезли вовремя воду, и вся экспедиция — пятнадцать человек, четыре лошади и два ишака, мучилась жаждой, пока начальник экспедиции, доцент Холмов, ездил с бурдюками к колодцу. А потом историк вдруг перескочил на каких-то таштыков, потому что раскапывали они курган настоящего таштыкского царя. Холмов рассказывал о древних царствах, о воинах в тяжелых доспехах, что мчались когда-то в битвы на закованных в броню конях, о конных лучниках с разрисованными телами, оставивших на скалах грубые рисунки. Нельзя сказать, что эти разговоры сразу изменили отношение Шумова к нелегкому труду историков. «Ну, хорошо, — говорил он, — ну раскопали вы их. Польза-то от этого какая?» «А польза должна быть от всего?» — спрашивал Холмов. «Вообще-то да». Такие споры продолжались изо дня в день — у бойцов в учебном лагере свободного времени почти не было, и соседи все никак не могли закончить разговор, который почему-то вдруг стал необыкновенно важен для обоих. Сам того не сознавая, Шумов очень хотел, чтобы историк убедил его в своей правоте. Однажды рабочему даже приснились эти самые таштыки — в странных доспехах из кожаных полос и стальной чешуи, на маленьких, прикрытых броней лошадях, они говорили с ним на своем непонятном языке, словно пытались что-то объяснить, и у каждого почему-то был голос доцента. Шумов проснулся в холодном поту, и шепотом обматерил и старинных царей, и ученого с его рассказами. Следующим вечером разговор начал уже Холмов. Задетый за живое, он, как видно, решил во что бы то ни стало доказать рабочему, что труд историков тоже очень важен для страны. «Представь, что прошло, ну, допустим, не полторы тысячи, а пятьсот лет. Может быть, люди тогда уже будут жить дольше — сто лет, к примеру. И твой, скажем, прапрапрапраправнук захочет узнать — а как жил его прапрапрапрапрадед. Понимаешь, мы ведь не сами по себе здесь и сейчас взялись. Мы дети человечества, всех этих тысячелетий войн, крови, страданий, надежд. Если мы обо всем забудем… Мы ведь станем просто как звери — они тоже родства не помнят».
Холмову тогда так и не удалось до конца убедить друга. Лишь по пути на фронт, когда историк вдруг начал рассказывать угрюмым товарищам о Смуте и о том, как русские люди своими силами одолели страшного врага, по крупицам собрали разбитое вдребезги государство, рабочий поверил доценту. Валентин умел говорить, и, слушая его, Шумов почувствовал странное родство с теми ратниками, что триста тридцать лет назад встречали натиск крылатой латной конницы. Наверное, в обычной жизни рассказ Холмова прошел бы мимо рабочего, но долгий путь располагал к размышлениям, и размышления эти были невеселые. Страна проигрывала войну, немец рвался вперед, и тяжелая черная тоска изматывала людей, подтачивала решимость, гнала сон. А Валентин вдруг сказал: было хуже, было много хуже, но победа осталась за нами. Русские, такие же, как мы, и не только русские, своей силой, своим мужеством отстояли Русь, когда казалось, что надежды уже нет.