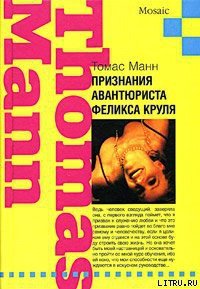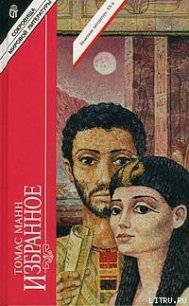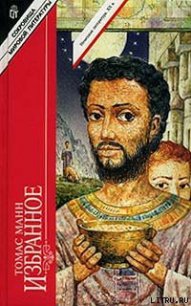ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
«Пустые бредни», — скажут мне. Но тут уж я ничего поделать не могу, я могу лишь рассказать о пережитом и признаться в той глубочайшей беспомощности, в которую меня ввергало это эльфическое существо. Мне следовало бы взять пример — да я и пытался взять! — с Адриана. Он был не педагог, а художник и принимал вещи такими, какими они были, видимо не задумываясь над их превратностью. Иными словами, он сообщал непрерывному становлению характер неизменного бытия; он верил в образ, и это была вера сравнительно спокойная, без душевных терзаний (так по крайней мере мне казалось), вера человека, привыкшего мыслить образами настолько, что и самый неземной из них не выводил его из равновесия. Эхо, принц из страны эльфов, явился в Пфейферинг, что ж, с ним надо было обходиться соответственно его природе, а не устраивать шумихи. Вот, видимо, была точка зрения Адриана. Разумеется, он был весьма далек от нахмуренных бровей и пошлости вроде: «Ну как, сынок? Ты, я вижу, молодцом?» Но, с другой стороны, он предоставлял все восторги, все эти: «Ах, не ребенок, а божье благословение», — простым людям, его окружавшим. В его отношении к мальчику сквозила мечтательно-радостная, подчас серьезная нежность, без слащавости, без причитаний, без излишней ласковости даже. Ни разу я не видел, чтобы он приласкал его, хотя бы погладил по волосам. Но вот гулять в поле, держа его за руку, это он любил.
Все это, конечно, не могло поколебать моей уверенности в том, что он с первого дня всей душой полюбил племянника и что близость этого ребенка составила светлую, самую светлую эпоху в его жизни. Слишком очевидно, было, как глубоко его захватывало, какой радостью наполняло его дни сладостное, легкое, эльфическое, но при этом обряженное в степенные старинные слова очарование малыша, которого он и видел-то неподолгу, так как присмотр за ребенком, разумеется, был возложен на тамошних женщин. Впрочем, у матери и дочери Швейгештиль столько было разных хлопот и обязанностей, что они частенько оставляли его одного где-нибудь в укромном уголке сада или дома. После кори у него была такая потребность во сне, какая чаще бывает у совсем маленьких детей, и днем, кроме часов, положенных для послеобеденного отдыха, он, случалось, засыпал там, где находился. Когда дремота начинала его одолевать, он обычно бормотал «ночи»! И не только ложась вечером в постель, у него вообще это было прощальное словечко. «Ночи» говорилось в любое время дня, когда уходил он или кто-нибудь другой, вместо «до свидания», «прощайте». Оно являлось соответствием словечка «буде», которым он возвещал, что уже сыт. Сказав свое «ночи», мальчик протягивал ручку и тотчас же засыпал — в траве или на стуле. Однажды я застал Адриана сидящим в огороде на узкой скамеечке, сколоченной из трех досок: он не сводил глаз со спавшего у его ног Эхо.
— Засыпая, он подал мне ручку, — пояснил он, подняв на меня глаза, когда я уже стоял подле него. Моего приближения Адриан не заметил.
Эльза и Клементина Швейгештиль заверяли меня, что Непомук самый послушный, покладистый и спокойный ребенок, которого они когда-либо видели; и это вполне совпадало с тем, что мне рассказывали о его раннем детстве. Правда, мне случалось видеть, как он плакал, сделав себе больно, но никогда я не слышал, чтобы он хныкал, ревел, как другие раскапризничавшиеся дети. С ним этого быть не могло. Если ему запрещали не вовремя идти в конюшню с конюхом или в коровник с Вальпургией, он принимал этот запрет с полной готовностью и только бормотал «чуточек позже пойду, завтра Эхо, верно, пустят» — в утешение не столько себе, сколько тому, кто, уж наверное, очень неохотно решался на запрет. Более того, он поглаживал руку запретчика с выражением, словно говорившим: «Не расстраивайся, в другой раз позволишь».
То же самое бывало, и когда ему не позволяли идти в кабинет к дяде. Непомук очень к нему привязался. С первых же дней пребывания в Пфейферинге было ясно, что из всех он избрал Адриана и стремится к его обществу потому, вероятно, что оно казалось ему интересным и необычным, общество же опекавших его Эльзы и Клементины — будничным. Да и как могло бы от него ускользнуть, что этот человек, брат его матери, занимал среди пфейферингских крестьян совсем особое, почетное положение, более того, внушавшее робость? Не исключено, что эта робость взрослых, подстрекая детское честолюбие, заставляла Эхо еще больше льнуть к дяде. Нельзя сказать, чтобы Адриан очень уж широко шел навстречу исканиям мальчика. Он не пускал его к себе, целыми днями его не видел, казалось, нарочито лишал себя радости видеть так сильно полюбившегося ему ребенка. Иногда же он проводил с ним целые часы, брал его за ручку (я уже говорил об этом), и они совершали прогулки достаточно дальние, но, конечно, посильные малышу. Молча или неторопливо обмениваясь словами, бродили они среди влажной благодати того времени года, что совпало с приездом Эхо: ароматы черемухи и сирени, а позднее жасмина овевали их путь; на узких межах они шли друг за другом, Эхо всегда впереди, среди стен кивавшей своими колосьями уже желтеющей ржи, что так буйно росла на тамошней тучной земле.
«Землице» должен был бы сказать я, ибо так говорил Непомук, выражавший свою радость по поводу того, что «ситничек» хорошо «вспоил землицу» прошедшей ночью.
— Ситничек, Эхо? — переспросил дядя, довольный детски-народным «вспоил».
— Да, ситничек, — подтвердил его спутник, отнюдь не намеренный пускаться в дальнейшие рассуждения.
— Ты только подумай, дождь — у него ситничек, — с удивлением сообщил мне Адриан в следующий мой приезд.
Я ответил своему другу, что «ситничек» народное и очень старинное наименование мелкого теплого дождя.
— Да, он пришел издалека, — прочувствованно сказал Адриан.
Из города, когда ему приходилось туда ездить, Адриан непременно привозил мальчику подарки: всевозможных игрушечных зверей, ящичек, из которого выпрыгивал карлик, железную дорогу, такую, что, когда вагончики бежали по замкнутому овалу рельсов, искры летели у них из-под колес, волшебную шкатулку, где среди прочих чудес был стакан с красным вином, не выливавшимся, даже когда его опрокидывали. Эхо радовался этим дарам, но, немножко поиграв, уже говорил «буде» и куда больше любил рассматривать вещи в комнате дяди и слушать его объяснения, всегда одни и те же, но всякий раз заново воспринятые, ибо ничего нет занимательнее для детей, чем постоянные, упорные повторения. Слоновый клык, отшлифованный в виде ножа для разрезания бумаги, глобус, вертящийся вокруг своей наклонной оси, с разорванными кусками суши, с врезающимися в них заливами, с внутренними водами причудливейшей формы, с голубеющими пространствами океанов; стоячие часы с боем и гирями, которые поднимались кверху при помощи рукоятки; к этим предметам и еще многим другим рвалось сердце мальчика, когда он, стройненький, скромный, входил к Адриану и спрашивал:
— Ты осердился, что я опять пришел?
— Нет, Эхо, не очень. Но гири еще только на полпути.
В таком случае он спрашивал музыкальный ящичек. Это было мое доброхотное даяние, я привез его из Мюнхена: коричневая коробочка, которая заводилась с нижней стороны. Ее валик, утыканный маленькими металлическими шпыньками, начинал прокручиваться меж определенных зубцов гребня, и она играла, поначалу с торопливой грацией, затем медленнее, устало, три простенькие хорошо гармонизированные мелодии, которые Эхо слушал изо дня в день с одинаковым увлечением, причем в глазах его — никогда мне этого не забыть — веселость и удивление мешались с глубочайшей задумчивостью.
Дядины рукописи — эти пустые и черные руны, рассыпанные по линейной системе и соединенные черточками и полукружиями, — он тоже любил рассматривать, всякий раз спрашивая объяснения, о чем говорят эти значки: о нем, об Эхо они говорили, скажу по секрету, и как бы я хотел знать, осеняла ли его такая догадка, можно ли было по его глазам прочитать, что он это вывел из объяснений автора. Мальчику было дано прежде всех нас заглянуть в наброски партитуры песен Ариеля из «Бури», над которыми тогда тайно работал Леверкюн: он их записывал и, наполнив первую призрачными голосами природы — «Come unto these yellow sands» 1, слил ее в единое целое со второй, «Where the bee sucks, there suck I» 2, наивно-изящной, для сопрано, челесты, засурдиненной скрипки, гобоя,