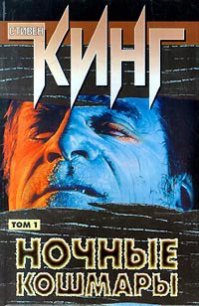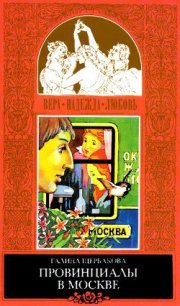Уткоместь, или Моление о Еве - Щербакова Галина Николаевна (книги .TXT) 📗
– Да что вы! – сочувственно восклицает Катя. – Это у вас серные пробки. Их просто надо вымыть.
– Так и сделаю, – смеюсь я над собой. Зачем вышла за девочкой? Чтоб она мне прочистила уши?
Но тут Катя сообщает мне, что у Алеши все хорошо, что он меняет квартиру и прислал ей приглашение. Я сразу поняла всех древних греков вместе и по отдельности взятых, хорошо осведомленных в неотвратимости божественного рока, а потому попадающих в расставленные силки как бы без вариантов. Всякие там Эдипы, Оресты и прочие Дездемоны. Я ничего не знала (но дрожало-дрожало внутри тоненькое «ми») о съеме квартиры. Алеша жил у наших знакомых, в отдельной выгородке. Те нуждались даже в небольшой квартирной плате, так как купленный дом сжирал все. Алеша имел комнату с отдельным ходом, а также завтрак и ужин. Никаких знаков того, будто что-то его не устраивало, не поступало. Я спросила Катю, когда она едет, – она улетала через две недели.
– Позвоню, узнаю, что ему надо, – возмутилась я.
– Алеша мне запретил вам говорить именно поэтому – чтоб вы не суетились. Я бы вам обязательно позвонила накануне. Но раз уж встретились. Это судьба.
Конечно, это греки, кто же еще?
Я спрашиваю, на сколько она едет.
О, бессилие слов! Ну как описать это практически незаметное движение плечами с одновременным легким взлетом бровей, которые говорят и о неопределенности времени (ответ на вопрос), но и намекают на нечто, что и определит, будет это четверг там или пятница. Годятся ли тут греки? Вне меня начиналась история, в которую мне заказано было вступать. Выход из вагона и властное задержание Кати у колонны были пределом моих возможностей вторжения в историю моего единственного сына, выцелованного и вылюбленного до самых деликатных дырочек. Но я оказалась ничто супротив этого легкого взлета бровей девочки.
– Вы расстроились, что я лечу к Алеше? – почти нежно спросила Катя.
– Просто я и не подозревала, что ты с ним поддерживаешь отношения.
– Всегда, – ответила она.. – Алеша ваш настоящий.
И я ее обнимаю, потому что, несмотря ни на что, благодарна ей за понимание сына. Но как же мне тяжело, как тяжело вот это все – то, что я держу ее, мягкокашемировую, что я ничего не знала, а мой сын даже просил мне ничего не говорить – чтоб дура мать не суетилась. И еще я нутром чувствую: греки приготовили мне еще что-то, и это предпоследняя минута прежней жизни, после которой начнется совсем-совсем другая. Так мы и стоим под красивой Катиной шляпой – дама в подростковой дубленке и девчонка в уборе королев.
– Поцелуй его, – говорю я.
В вагоне я начинаю реветь, и равнодушная публика, которая и не то видала, вдруг проникается ко мне почему-то сочувствием, мне суют в нос что-то ароматическое, кладут чужими руками в рот валидол, кто-то обмахивает меня журналом «Вояж». Все что-то говорят, говорят, пробивая штольню в мой оцепенелый мозг.
– Слезы – это благодать, – объясняет мне какая-то старушка из тех, что истово, до возможности убийства веруют в Бога и Сталина. – Слезами, баба, выходят душевные камни. Слезами! А которые не плачут – те мрут.
Значит, буду жить.
Дома я позвонила Ольге. Почему-то решила, что именно мне надо позвонить первой. Но той не было на работе.
Позвонила Раисе. Та спросила во-первых, во-вторых и в-третьих: ввяжемся ли мы в войну в Югославии? Снова греки. Снова рок. Кажется, я застонала, и Раиса стала кричать: «Что с тобой? Ты сына спрятала. Что может быть важнее?»
– А что со мной? «Которые плачут – не мрут», – ответила я. – Плачь!
Я – Раиса
Мальчишки, оказывается, ходили плеваться на американское посольство. Вместе с дедушкой.
– Вы идиоты? – спросила я. – Дом-то при чем?
– Если народ будет молчать… – Это дедушка. Но и мама, и тетка тоже были готовы идти и не пожалеть яиц. Хотя недели шли предпасхальные. И яйца уже дорожали.
Муж сказал, что все обойдется. Выпустят пар и утешатся.
– Нельзя утешаться. Надо бороться. – Это снова все дед. Я-то размечталась, как он огородами будет уводить от войны внуков, а он вполне у нас партизан и, значит, наступатель.
Сашка сказала мне: «Плачь!» Но я не могу. Во мне нет слез. Я думаю, что теперь, в нынешней ситуации, военком, с которым я уже три года веду шуры-муры, затребует сумму покруче. Он и так мне все время намекает на опасность, которой ради меня подвергается. Я делаю вид, что млею от его мужских подвигов во имя моих интересов. Но я просто вижу, как растет сумма прописью. «Не надо рожать солдат парами. Родина этого не требует. Отечество пока не в опасности». Так шутит военком.
Но я объявляю своей семье, что запрещаю военные действия против НАТО, что яички мне не просто так достаются, что пусть пишут в газеты, стучат в Интернет, но все эти походы под портретами и флагами – через мой труп.
В общем, я человек смирный. И ультиматумов никому сроду не предъявляю. Я как-то давным-давно поняла, что даже два самых близких и родных человека – два совершенно разных и чужих человека. И нет общей даже на всех мысли и тем более общей эмоции. Имеется желание этого, что, видимо, и есть любовь. Даже Бог. Даже Он… у каждого свой. А уж об объединяющей Его именем мысли-идее и говорить нечего! Его именем убито не меньше, чем именем Гитлера, Ленина и Сталина… Спасаться и спастись можно только в одиночку. Меня почему-то особенно убеждают в этом красота и неодинаковость птиц. Боже, как они прекрасны! Иногда и на нас, как на птиц, смотрят художники. Тогда и мы ничего. Но Боже спаси сбиваться нам в человеческие тучи. Это самоуничтожение. Расклюет биомасса.
Поэтому в семье у нас каждый и Бог, и Царь, и Герой. Вот почему мое категорическое «через мой труп» было сравнимо со взрывом гранаты, подрывающей свободные устои семьи. Но у меня не было сил что-то объяснять, плакаться я не умела, я оделась и ушла из дома.
Мои Елисейские поля – Звездный бульвар. Мы приехали сюда, когда это была еще свалка и наши пятиэтажки застили окна деревянным баракам. Сейчас бульвар засадили, но что-то плохо приживается дерево. Его как бы не принимает земля. Но я-то знаю, какая это была земля. В ней до сих пор столько железа, бетона и стекла, что вырасти на этом может некий флористический монстр, победивший саму возможность нерождения. То самое «Быть или не быть?» – это уже вклинивается задохшаяся от паров гнева ирония. Спасибо ей, моей мысленной птичке со слипшимся пером. Я дую на них, они трепыхаются едва-едва, но я знаю: птичка выживет, а значит, выживу и я. Я иду по звездно-елисейскому буераку среди хилых дерев-гамлетов, выбравших свое право «быть!». От хлебозавода дует хорошим духом, он бодрит и успокаивает. Рядом с ним вырос домушко – эдакий современный пижончик под боком старого хлеба. Какое-то издательство. От него мне навстречу ковыляет нечто знакомое, но мысли мои все, как одна, разбились в борьбе за сохранение семьи-индивидуальности, и поэтому я поздно сообразила, что тропинку жмет толстой реброй моя писательница, любительница «Чеддера», почему-то с палкой. Все правильно, ее место возле издательства. Это я тут просто мимо иду…
Она мне рада и объясняет про палку: на всякий случай. Плохая дорога, овраг. Спрашивает, как я здесь оказалась.
Я показываю ей свой дом, она мне – свое издательство. Теперь – сходитесь. Низкорослые кривоватые гамлеты машут нам ветвями-недомерками. Я иду проводить ее к метро, мне же все равно, как страдать. Она мне рассказывает, что хочет использовать эпизод из моей жизни.
– Помните, как татарки варили мясной суп, а вы упали в обморок?
Я великодушно ей разрешаю, но спрашиваю существо контекста.
– Ничего особенного, – скоро говорит моя литература, – ваши татарки…
– Это могли быть грузинки, чукчи и братья славяне, – отвечаю я. – Татарки – не ключевое слово. Ключевое – отсутствие у меня денег.
– А у татарок они были. Почему-то были! – напирает писательница.
– И слава богу! Их умение не оставаться голодными разбудило во мне Герцена.