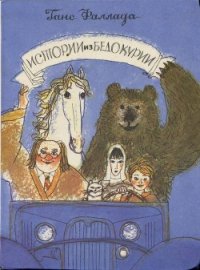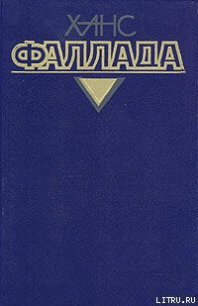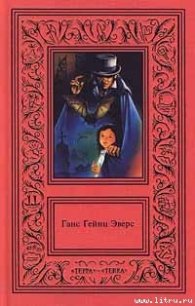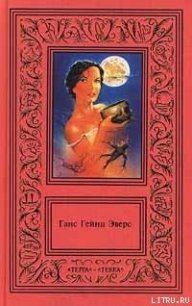Каждый умирает в одиночку - Фаллада Ганс (читать книги онлайн без TXT) 📗
— Ах да! — вся встрепенувшись, сказала она вдруг и бледные впалые щеки ее зарделись — Непременна скажите Отто, когда увидите его, что я всегда, каждую минуту думаю о нем, и я знаю, я уверена, что увижу его прежде, чем умереть…
Надзиратель с минуту растерянно смотрит на эту пожилую женщину, которая говорит тоном юной влюбленной девушки. Старая солома жарче горит! — думает он и отворачивается к окну.
Она не заметила его взгляда, она лихорадочно говорит дальше: — И еще скажите Отто, что у меня прекрасная, совсем отдельная камера. Мне живется хорошо! Я постоянно думаю о нем и счастлива этим. Я знай твердо, нас ничто не может разлучить, ни стены, ни решетки. Я всегда, каждую минуту с ним, ночью и днем Скажите ему непременно!
Она лжет, ах, как она лжет, лишь бы утешить своего Отто! Она хочет дать ему покой, тот покой, которого ни часу не имела сама с тех пор, как находится здесь.
Советник суда косится на дежурного, который уставился в окно, и шепчет: — Смотрите, не потеряйте то, что я вам дал! — потому что фрау Квангель, повидимому, забыла все на свете.
— Нет, нет, не потеряю, господин советник. А что там такое? — тихо спрашивает она.
— Яд, ваш муж получил то же, — еще тише отвечает он.
Она кивает.
Дежурный поворачивается к ним и говорит угрожающе: — Шептаться не разрешено, иначе свидание прекращается. Кстати, — он смотрит на часы, — время все равно истекает через полторы минуты.
— Да, — задумчиво тянет она. — Да. — И вдруг понимает, что именно ей надо сказать. Она спрашивает: — Как вы думаете, Отто скоро уедет? Не дожидаясь того, большого путешествия? Да? Как вы думаете?
Лицо ее выражает такую мучительную тревогу, что даже тупоголовый чиновник понимает — здесь подразумевается совсем не то, что говорится. Он уже готов вмешаться, но потом смотрит на эту пожилую женщину, на господина с седой бородкой, который в пропуске значится советником суда, и, исполнившись снисхождения, опять отворачивается к окну.
— Трудно сказать, — осторожно говорит советник. — Путешествовать сейчас тоже нелегко. — И торопливым шопотом добавляет: — Ждите до самой последней минуты, может быть, вам удастся еще раз повидать его. Хорошо?
Она кивает, кивает снова.
— Да, — отвечает она громко. — Так будет лучше всего.
Некоторое время они молча стоят друг против друга и вдруг чувствуют, что им больше не о чем говорить. Кончено. Точка.
— Кажется, мне пора итти, — говорит советник.
— Да, — шепчет она в ответ, — кажется, пора.
И вдруг — дежурный уже повернулся к ним и нетерпеливо смотрит на часы — вдруг Анна Квангель не выдерживает. Она прижимается всем телом к решетке и шепчет, протискивая голову между железными прутьями: — Господин советник, пожалуйста, прошу вас! Должно быть, вы последний порядочный человек, которого я вижу на земле. Пожалуйста, поцелуйте меня! Я закрою глаза и подумаю, что меня целует Отто…
Бросается на мужчин! думает дежурный. Приговорена к смерти, а все не унимается! На старикашку польстилась!
А старый советник говорит ласковым, нежным голосом: — Не бойтесь, дитя мое, не бойтесь…
И тонкие старческие губы нежно касаются ее потрескавшихся сухих губ.
— Не бойтесь, дитя мое. Теперь вам будет спокойнее…
— Я знаю, — шепчет она. — Большое вам спасибо, господин советник.
И вот она снова у себя в камере, веревки в беспорядке разбросаны по полу, а она шагает взад и вперед, нетерпеливо отшвыривает их ногами, как в самые свои трудные дни. Она прочла записку, она поняла ее смысл. Она знает, — теперь и у нее, и у Отто есть оружие, она в любую минуту могут покончить с этой жалкой жизнью, если станет уж совсем невыносимо. Ей незачем терпеть мучения, она может сейчас же, сию секунду, пока цела еще капелька радости от сегодняшнего свидания, положить всему конец.
Она ходит, разговаривает сама с собой, смеется, плачет.
У двери подслушивают. Говорят: — Ну, вот и свихнулась. Смирительную рубашку приготовили?
А женщина в камере ничего не замечает, она ведет жестокую борьбу сама с собой. Перед ней встает лицо старика Фрома, такое серьезное, когда он говорил ей, чтобы она ждала до последней минуты, может быть, ей удастся еще раз повидать мужа.
Тогда она согласилась с ним. Конечно, это правильно, она должна набраться терпения и ждать, может быть, целые месяцы. Но хотя бы это были не месяцы, а недели, ей теперь невыносимо ждать. Она себя знает, она еще будет и отчаиваться, и плакать без конца, и впадать в уныние, все так жестоки с ней, ни от кого ни доброго слова, ни улыбки. Как же это терпеть столько времени? А стоит ей чуть шевельнуть языком, нажать зубами, не всерьез, а только для пробы, и все готово. Это так легко, чересчур легко!
Вот то-то и есть! Как-нибудь, в минуту слабости, она сделает это, и сейчас же, в короткий миг на пороге смерти, раскается так, как никогда не каялась в жизни: добровольно, по собственной трусости и слабости лишить себя надежды еще раз увидеть его!
Ему сообщат о ее смерти, и он узнает, что она покинула, предала его, что она была малодушна. И он не будет уважать ее, а ей важнее всего на свете его уважение.
Да, надо сейчас же уничтожить эту окаянную капсюльку. Вдруг завтра утром будет уже поздно, кто знает, в каком настроении она проснется завтра утром.
Но на пути к параше она останавливается… И снова принимается шагать.
Она вспомнила, что должна умереть, и какой смертью! Она узнала здесь, в тюрьме, из ночных разговоров, что ее ждет не виселица, а гильотина. Ей подробно расписали, как ее привяжут ремнями к столу, как лежа на животе, она будет смотреть в корзинку с опилками, куда через несколько секунд упадет ее голова. Ей обнажат шею, и она почувствует холод от ножа еще раньше, чем он ринется вниз. Потом он загудит, все громче, загремит в ее ушах, как труба страшного суда, а потом вместо ее тела останется какой-то дергающийся обрубок, и голова в корзинке, возможно, будет глазеть на окровавленную шею, будет еще видеть, чувствовать, страдать…
Так ей рассказали, и так она представляла себе это сотни раз и несколько раз даже видела во сне, и от всех этих ужасов она может быть избавлена, стоит ей раскусить стеклянную капсюльку.
И что же — неужели выбросить ее, неужели отказаться от избавления? Ей дан выбор между легкой и тяжелой смертью, и она должна избрать тяжелую смерть только потому, что боится собственной слабости, боится умереть раньше Отто?
Она качает головой, Нет, ей нечего бояться. У нее хватит сил ждать до последней минуты. Она хочет увидеть Отто. Переносила же она страх, который всегда охватывал ее, когда Отто шел подбрасывать открытки, перенесла ужас ареста, вытерпела мучительства комиссара Лауба, пережила смерть Трудель — значит у нее хватит сил ждать несколько недель, несколько месяцев. Она все выдержала, выдержит и это! А яд, конечно, надо хранить до последней минуты.
Она мечется взад-вперед, взад-вперед.
Но решение, только что принятое ею, не успокаивает ее. Снова возникает сомнение, и снова она борется с ним и опять решает сейчас же, тут же, сию же минуту уничтожить яд, и опять не исполняет решения.
Тем временем наступает вечер, ночь. Из камеры вынесли несделанную работу, а ей объявили, что за леность ее на неделю оставляют без матраца и сажают на хлеб и воду.
Она даже не дослушала. Какая важность, что они там говорят?
Похлебка, принесенная на ужин, стоит нетронутой на столе, а она все мечется взад-вперед, смертельно усталая, неспособная связно мыслить, вся во власти мучительного сомнения: бросить — не бросить?
Вот она осторожно перекатывает капсюльку языком, легко, совсем легко, почти бессознательно сжимает ее зубами, осторожно прикусывает…
И сейчас же выхватывает ампулу изо рта. Она мечется, она сама не понимает, что делает — а там уже приготовлена смирительная рубашка…
И вдруг, поздней ночью, она приходит в себя, она лежит на своей койке, на голых досках, укрытая тоненьким одеялом и дрожит всем телом от холода. Значит, она уснула? А куда она дела капсюльку? Неужто проглотила? Во рту ее нет!