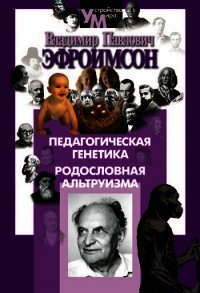Том 3. Педагогическая поэма - Макаренко Антон Семенович (бесплатные полные книги .TXT) 📗
— Да что ты?
— Та на десятом пути… Давно стоит!..
Мы не успели опешить от неожиданной прозы этого сообщения. Из-под товарного вагона на третьем пути на нас глянула продувная физиономия Лаптя, и его припухший взгляд иронически разглядывал нашу группу.
— Давысь! — крикнул Карабанов. — Ванька вже з-пид вагона лизе.
На Лаптя набросились всей толпой, но он глубже залез под вагон и оттуда серьезно заявил:
— Соблюдайте очередь! И, кроме того, целоваться буду только с Оксаной и Рахилью, для остальных имею рукопожатие.
Карабанов за ногу вытащил Лаптя из-под вагона, и его голые пятки замелькали в воздухе.
— Черт с вами, целуйте! — сказал Лапоть, опустившись на землю, и подставил веснушчатую щеку.
Оксана и Рахиль действительно занялись поцелуйным обрядом, а остальные бросились под вагоны.
Лапоть долго тряс мне руку и сиял непривычной на его лице простой и искренней радостью.
— Как едете?
— Как на ярмарку, — сказал Лапоть. — Молодец только хулиганит: всю ночь колотил по вагону. Там от вагона только стойки остались. Долго тут будем стоять? Я приказал всем быть наготове. Если что, будем стоять, — умыться ж надо и вообще…
— Иди, узнавай.
Лапоть побежал на станцию, а я поспешил к поезду. В поезде было сорок пять вагонов. Из широко раздвинутых дверей и верхних люков смотрели на меня прекрасные лица горьковцев, смеялись, кричали, размахивали тюбетейками. Из ближайшего люка вылез до пояса Гуд, умиленно моргал глазами и бубнил:
— Антон Семенович, отец родной, хиба ж так полагается? Так же не полагается. Разве это закон? Это ж не закон.
— Здравствуй, Гуд, на кого ты жалуешься?
— На этого чертового Лаптя. Сказал, понимаете: кто из вагона вылезет до сигнала, голову оторву. Скорийше принимайте команду, а то Лапоть нас уже замучил. Разве Лапоть может быть начальником? Правда ж, не может?
За моей спиной стоит уже Лапоть и охотно продолжает в гамме Гуда:
— А попробуй вылезти из вагона до сигнала! Ну, попробуй! Думаешь, мне приятно с такими шмаровозами возиться? Ну, вылазь!
Гуд продолжал умильно:
— Ты думаешь, мне очень нужно вылазить? Мне и здесь хоррошо. Это я принципиально.
— То-то! — сказал Лапоть. — Ну, давай сюда Синенького!
Через минуту из-за плеча Гуда выглянуло хорошенькое детское личико Синенького, недоуменно замигало заспанными глазенками и растянуло упругий яркий ротик:
— Антон Семенович…
— «Здравствуй» скажи, дурень! Чи ты не понимаешь? — зажурил Гуд.
Гл Синенький всматривается в меня, краснеет и гудит растерянно.
— Антон Семенович… ну, а это что ж?.. Антон Семенович… смотри ты!..
Он затер кулачками глаза и вдруг по-настоящему обиделся на Гуда:
— Ты ж говорил: разбужу! Ты ж говорил… У, какой Гудище, а еще командир! Сам встал, смотри ты… Уже Куряж? Да? Уже Куряж?
Лапоть засмеялся:
— Какой там Куряж! Это Люботин! Просыпайся скорее, довольно тебе! Сигнал давай!
Синенький молниеносно посерьезнел и проснулся:
— Сигнал? Есть!
Он уже в полном сознании улыбнулся мне и сказал ласково:
— Здравствуйте, Антон Семенович! — и полез на какую-то полку за сигналкой.
Через две секунды он выставил сигналку наружу, подарил меня еще одной чудесной улыбкой, вытер губы голой рукой и придавил их в непередаваемо грациозном напряжении к мундштуку трубы. По станции покатился наш старый сигнал побудки.
Из вагонов попрыгали колонисты, и я занялся бесконечным рукопожатием. Лапоть уже сидел на вагонной крыше и возмущенно гримасничал по нашему адресу:
— Вы чего сюда приехали? Вы будете здесь нежничать? А когда вы будете умываться и убирать в вагонах? Или, может, вы думаете: сдадим вагоны грязными, черт с ними? Так имейте в виду, пощады не будет. И трусики надевайте новые. Где дежурный командир? А?
Таранец выглянул с соседней тормозной площадки. На его теле только сморщенные, полинявшие трусики, а на голой руке новенькая красная повязка.
— Я тут.
— Порядка не вижу! — заорал Лапоть. — Вода где, знаешь? Сколько стоять будет, знаешь? Завтрак раздавать, знаешь? Ну, говори!
Таранец взлез к Лаптю на крышу и, загибая пальцы на руках, ответил, что стоять будем сорок минут, умываться можно возле той башни, а завтрак у Федоренко уже приготовлен и когда угодно можно начинать.
— Чулы? — спросил у колонистов Лапоть. — А если чулы, так какого ангела гав (ворона) ловите?
Загоревшие ноги колонистов замелькали на всех люботинских путях. По вагонам заскребли вениками, и четвертый «У» сводный заходил перед вагонами с ведрами, собирая сор.
Из последнего вагона Вершнев и Осадчий вынесли на руках еще не проснувшегося Коваля и старательно приделывали его посидеть на сигнальном столбике.
— Воны ше не проснулысь, — сказал Лапоть, присев перед Ковалем на корточках.
Коваль свалился со столбика.
— Теперь воны вже проснулысь, — отметил это событие Лапоть.
— Как ты мне надоел, Рыжий! — сказал серьезно Коваль и пояснил мне, подавая руку: — Чи есть на этого человека какой-нибудь угомон, чи нету? Всю ночь по крышам, то на паровозе, то ему померещилось, что свиньи показались. Если я чего уморился за это время% то хиба от Лаптя. Где тут умываться?
— А мы знаем, — сказал Осадчий. — Берем, Колька!
Они потащили Коваля к башне, а Лапоть сказал:
— А он еще недоволен… А знаете, Антон Семенович, Коваль, мабудь, за эту неделю первую ночь спал.
Через полчаса в вагонах было убрано, и колонисты в блестящих темно-синих трусиках и белых сорочках уселись завтракать. Меня втащили в штабной вагон и заставили есть «Марию Ивановну».
Снизу, с путей, кто-то сказал громко:
— Лапоть, начальник станции объявил — через каких-нибудь пять минут поедем.
Я выглянул на знакомый голос. Грандиозные очи Марка Шейнгауза смотрели на меня серьезно, и по ним ходили прежние темные волны страсти.
— Марк, здравствуй! Как это я тебя не видел?
— А я был на карауле у знамени, — строго сказал Марк.
— Как тебе живется? Ты теперь доволен своим характером?
Я спрыгнул вниз. Марк поддержал меня и, пользуясь случаем, зашептал напряженно:
— Я еще не очень доволен своим характером, Антон Семенович. Не очень доволен, хочу вам сказать правду.
— Ну?
— Вы понимаете: они едут, так они песни поют, и ничего. А я все думаю и думаю и не могу песни с ними петь. Разве это характер?
— О чем ты думаешь?
— Почему они не боятся, а я боюсь…
— За себя боишься?
— Нет, зачем мне бояться за себя? За себя я ничуть не боюсь, а я боюсь и за вас, и за всех, я вообще боюсь. У них была хорошая жизнь, а теперь, наверное, будет плохо, и кто его знает, чем это кончится?
— Зато они идут на борьбу. Это, Марк, большое счастье, когда можно идти на борьбу за лучшую жизнь.
— Так я же вам говорю: они счастливые люди, потому они и песни поют. А почему я не могу петь, а все думаю?
Над самым моим ухом Синенький оглушительно заиграл сигнал общего сбора.
— «Сигнал атаки», — сообразил я и вместе со всеми поспешил к вагону. Взбираясь в вагон, я видел, как свободно, выбрасывая голые пятки, подбежал к своему вагону Марк, и подумал: сегодня этот юноша узнает, что такое победа или поражение. Тогда он станет большевиком.
Паровоз засвистел. Лапоть заорал на какого-то опоздавшего. Поезд тронулся.
Через сорок минут он медленно втянулся на Рыжовскую станцию и остановился на третьем пути. На перроне стояли Екатерина Григорьевна, Лидочка и Гуляева, и у них дрожали лица от радости.
Коваль подошел ко мне:
— Чего будем волынить? Разгружаться?
Он побежал к начальнику. Выяснилось, что поезд для разгрузки нужно подавать на первый путь, к «рамке», но подать нечем. Поездной паровоз ушел в Харьков, а теперь нужно вызвать откуда-то специальный маневровый паровоз. На станцию Рыжов никогда таких составов не приходило, и своего маневрового паровоза не было.
Это извести приняли сначала спокойно. Но прошло полчаса, потом час, нам надоело томиться возле вагонов. Беспокоил нас и Молодец, который, чем выше поднималось солнце, тем больше бесчинствовал в вагоне. Он успел еще ночью разнести вдребезги всю вагонную обшивку и теперь добивал остальное. Возле его вагона уже ходили какие-то чины и в замасленных книжках что-то подсчитывали. Начальник станции летал по путям, как на ристалищах, и требовал, чтобы хлопцы не выходили из вагонов и не ходили по путям, по которым то и дело пробегали пассажирские, дачные, товарные поезда.