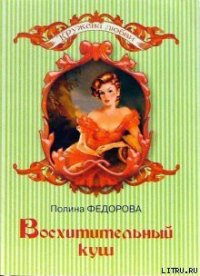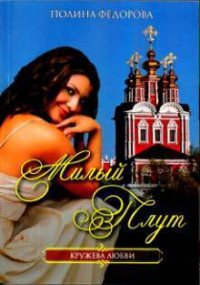Сюрприз для повесы - Федорова Полина (книги бесплатно TXT) 📗
Объедаться блинами было «положено» особенно в среду, которая называлась «лакомкой». Ели блины с медом, сметаной, икрой и рыбой, запивали водочкой, которая не меряно потреблялась в четверг, не случайно названный «разгулом». Это был пик Масленицы. Именно в этот день, помимо праздника живота, справляли еще и праздник духа: устраивали кулачные бои, всякого рода катания и скачки, то бишь санные бега, введенные с легкой руки блистательного баловня судьбы графа Алексея Орлова-Чесменского.
В сем плане разгульный четверг 1808 года ничем не отличался от иных масленичных четвергов прошлых лет. По Москворецкому и горбатому Каменному мостам нескончаемым потоком шли к стенам Кремля, потряхивая санями, целые вереницы троек, пароконных и одноконных упряжек, коих с трудом обходили верховые. Скользили на стальных полозьях запряженные великолепными рысаками сани, возки с кожаными фартуками от снега и ветра, похожие на паруса шхун, и прочие кареты и коляски. Все они, с кучерами, одетыми в непродуваемые бараньи кафтаны, свернув с мостов навстречу друг другу, двигались к широкому деревянному настилу, соединяющему кремлевский бульвар с Москвой — рекой, словно зрительский зал с ареной. Впрочем, сегодня Москва-река и была настоящей ареной. Именно туда спускаются, дожидаясь своей очереди, возки и сани, чтобы принять участие в санных бегах.
Кто были сии участники скачек?
Да кто угодно!
Офицеры, что ехали в шинелях и военных шапках, отличающих их принадлежность к тому или иному полку; статские дворяне и окрестные помещики в шубах и шапках из бобровых хребтов. Последние предпочитали состязаться в беге одиночек в англицкой шорочной упряжи и дрожках.
Ехали гильдейские московские купцы, уже махнувшие стопочку-другую для куражу. Сия публика, по большей своей части, намеревалась состязаться на тройках в русской дуговой упряжи.
Были любители санных бегов и меж сословия мещанского, и крестьянского, и средь последнего немало было хитрецов с такими лошадками, что рассчитывать на главный приз было им вполне резонно.
Остальные — публика, зрители. А они — едва ли не вся Москва.
И вся сия масса таким плотным полукружьем расположилась вокруг бегового поля на Москва-реке, что разного рода иноземные гости и путешественники, не пожелавшие отказать себе в сем замечательном зрелище, ежились и опасались: а ну как речная корка, что вряд ли более двух футов толщиной, не выдержит, и все они пойдут под лед ко псам собачьим, то бишь в черную студеную пучину?
А поле ныне — что надо. Дорожки ровные, обозначенные веревками, натянутыми на вбитые в лед колья. Округ — частокол из еловых веток. Есть и трибуны, но основная часть зрителей сосредоточена в нескончаемых, как кажется, рядах саней, колясок, карет и даже телег и дрог. Чтобы лучше видеть, кучерские места заняты господами, среди коих можно узреть немало дам, занявших кое-где и откидные сиденья. Им, в отличие от мужчин, должно быть более зябко: посуди сам, государь ты мой, сбережет ли от колючего зимнего ветру атласная шубка на куньем меху, и много ли тепла даст телу, обряженному только лишь в платье для визитов, песцовое пальтецо, скорее похожее на телогрею, нежели на пальто. А шляпки на головах? Да если бы на головах, а то на самом только темечке! Разве можно не замерзнуть и не схватить ярую простуду или, прости Господи, какую-нибудь ревматизму? Ан нет, сударь, не тут-то было. Не мерзнут дамы на ветру и морозе. Даже их беломраморные шейки, нимало не укутанные всякими палантинами, не краснеют на ветру и остаются такими же нежными и белыми.
А все почему?
Да потому, что греет дам, мадемуазелей, а по-простому, девиц огонь кокетства и флирта.
А где дамы и девицы, там и Константин Львович Вронский, бич престарелых мужей и сильнейшая опасность для молодых обрученных. Но отчего он задумчив? Отчего так невпопад отвечает на вопросы, и все посматривает по сторонам, словно кого-то ищет?
— Вы меня слышите, Константин Львович?
— Что, простите?
— Отчего вы не участвуете в бегах?
— Третьего дня мой Ногай ногу подвернул, хромает.
— А-а…
Беговая дорожка сверху похожа на вытянутый вдоль эллипс. Вот распорядитель взмахивает флажком, и звучит колоколец, оповещающий о начале бегов…
Сани не враз начинают бег, а раздельно, на равном расстоянии друг от друга. Бега начались! До чего же захватывающее зрелище эти зимние санные бега! Как великолепны кони, за которые часто плачены их хозяевами немалые тыщи! Пар длинными струями вырывается из ноздрей и окутывает бока животных, сливаясь с туманом от их разгоряченных тел. Грива блестит инеем, а хвосты словно оправлены бриллиантовой россыпью. Из-под подков искрами брызжет лед, а бег коней столь грациозен, что кажется, будто они нарочно столь высоко задирают колени, дабы покрасоваться перед публикой.
Первым к финишу пришел орловский рысак Смелый, запряженный в сани-козырек. Седока Вронский знал. Им был известный на всю Первопрестольную лошадиный заводчик Стахеев. Он и получил серебряный кубок чеканной работы ювелирного мастера Двора Его Императорского Величества — итальянца Фрозе. Вторым пришел его же жеребец Желанный, а санями правил — кто бы вы думали? — мадам Каховская, то есть, конечно, не правил, а правила. Вронский узнал ее сразу, хотя она и была одета скорее в наряд мужской, нежели в приличествую женщинам амазонку. Он поспешно спустился с трибун на лед, дабы одним из первых поприветствовать столь дерзновенную и смелую женщину, бросившую вызов мужчинам и оставившую позади себя едва ли не с дюжину таковых. Константин Львович был совсем близко и видел уже затылок Александры Федоровны, обтянутый специальной бархатной шапочкой, и нежную, какую-то беззащитную шею, оголенную из-за заправленных в шапку волос, как вдруг та, выходя из саней, поскользнулась. Быстро перебирая ногами в надежде устоять, Каховская, по-женски ойкнув, неловко и, верно, болезненно для себя вошла в соприкосновение со льдом своими чреслами. Ее развернуло, и она, проехав по льду с широко раздвинутыми ногами едва ли не с сажень, вплотную подъехала к Вронскому, упершись животом и грудью в его ноги, а лицом уткнувшись в полу его шубы, чуть пониже того самого места, где у мужчин произрастает их естество.
— Это, несомненно, судьба, — насмешливо произнес Константин Львович, мгновенно оценив комичность ситуации. Впрочем, даже наблюдавшему со стороны сия картина не могла не показаться двусмысленной: барышня сидит на льду, прислонившись своим телом к нижней половине стоящего мужчины. Конфузно, ежели не сказать более.
— Вы?! — подняла Александра Федоровна на Вронского пылающий взор.
— Я, — просто ответил тот и протянул ей руку. — Позвольте вам помочь?
— Еще чего, — с неизбывным презрением и холодом ответила Каховская.
Перебирая сзади руками, она отодвинулась от Вронского, сомкнула ноги и стала вставать. Уже поднявшись, она снова поскользнулась, и если бы не Константин Львович, то непременно бы упала вновь. Он успел подхватить ее буквально в последнее мгновение, причем одна его ладонь задержалась на талии Александры, а другая — на ягодицах, которые оказались круглыми, аккуратными и плотными, как два орешка.
«А у нее все, что положено иметь дамам, похоже, в полном порядке», — не преминул отметить для себя Константин Львович с некоторым удивлением.
Почти тотчас Каховская метнула на него такой жгучий взгляд, что, будь на месте Вронского иной мужчина, от него осталась бы в лучшем случае горка пепла.
— Не прикасайтесь ко мне! — ядовито прошипела она, высвобождаясь из его объятий. — Не смейте прикасаться ко мне, вы… — Она не нашлась более ничего сказать и поспешно отошла от Вронского, алея щечками так, что о них очень даже просто можно было погреть ладони.
Домой Константин Львович возвращался в задумчивости. Стареет он, что ли? Второй раз за две недели услышать от дамы: «не прикасайтесь ко мне», было уже явным перебором. Но присутствовал и момент приятственный. Надо же, мадам Каховская, оказывается, вполне порядочная особа насчет дамских прелестей. Упругая грудь, великолепная, надо признать попка, к коей, уж поверьте опыту, обязательно прилагается точеная ножка, не худая и не полная.