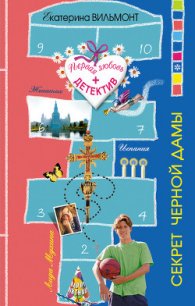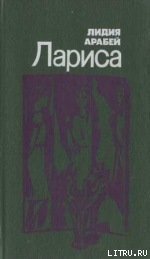Ах, Маня - Щербакова Галина Николаевна (серия книг txt) 📗
очень противный. Он сразу стал ко мне приставать, но Марио ему что-то резкое по-своему сказал, и тот затих… Вот сейчас говорю про это, и мне страшно делается. Как я жила? Ни с кем ни словечка, есть не ем, а все тупо думаю: надо что-то делать, надо что-то делать… Может, вам, Лидочка, это странным покажется, но мысли у меня были героические. Я думала о подвиге, но понятия не имела, в чем он может заключаться. Вы подумаете: какая она глупая. Я, Лидочка, до войны все о любви думала. Все мои мысли были об этом. Любовь, семья, дети, домашнее хозяйство. И несколько лет все это было – Леня. А потом я поняла, что ему это все не надо. Он хороший человек, но для него все то, что для меня было главным, главным быть не могло. И жениться он еще не хотел, ему одной женщины просто было мало, а при слове «дети» он умирал со смеху. Мы и расстались после смерти вашей мамы, а тут как раз война. Вот я так дважды заледенела, один раз от неполучившейся своей любви, а потом от войны. Я так думаю: мне надо было сразу на фронт призваться. Но уж больно быстро нас оккупировали, не успела я, Лидочка, ни в чем разобраться. А потом, значит, я стала думать, что надо совершить какой-то поступок. Вы в Бога, конечно, не верите. Да и я как-то не очень. Но что-то, Лидочка, есть… Есть, Лидочка, какой-то твой, написанный на веку, путь, и никуда от него не уйдешь… И было так… Приятель Марио получил отпуск, Напился он на радостях, как свинья, и ввалился к нам. Все у него уже было собрано в два чемодана, но набрал он еще ложек деревянных, как сувениров, и сложить их решил. Мама моя, покойница, рукодельница была удивительная. У нас дома целые картины под стеклами висели, ее вышивки и гладью, и крестом, и аппликациями. Я таких, Лидочка, больше не видела. И вот этот самый паразит вдруг начинает эти мамины картины снимать, мол, к ложкам добавление. И смеется, довольный, что мы стоим и молчим, как чушки. И вот тут меня и прорвало. Схватила я кочергу – и как закричу, и как шмякну его по голове… Лидочка, я его убила! Это столько во мне накопилось горя и силы, что он без единого звука свалился. Только картину уронил, и она разбилась. Представляете, что было с мамой? Стоит смотрит, а лицо у нее то белое, то какое-то синее, то красное. И тут входит Марио. Хватаю я кочергу и – на него, а он смотрит на меня внимательно, понимающе, виновато… И я вдруг чувствую, как кочерга у меня в руках пудовеет, как я ее уже не могу держать, как она меня валит с ног… В общем, стало мне плохо, и я упала. Пришла в себя, Марио голову мою на коленях держит и по щекам меня похлопывает, а когда я глаза открыла, он меня так нежно-нежно прижал к себе и говорит: «Ничего не бойся. Все будет хорошо». Лидочка, я не знаю, как к кому приходит любовь, а ко мне она пришла так. Я еще раз глаза закрыла, чтоб он еще раз меня по щекам похлопал и еще сказал, что все будет хорошо. В общем, мы втроем убитого закопали в летней кухне, вместе с чемоданами и деревянными ложками. Марио очень за меня беспокоился. Ну, во-первых, крик мой страшный соседи слышали, стали выяснять, что случилось. Объясняли мы им так: сорвалась со стены картина, стекло вдребезги, а я от неожиданности испугалась и закричала. В общем, все поверили, тем более что рассказывал все Марио. Он же предложил нам уехать. Содействие обещал любое. Но, Лидочка, никуда я от него уже не могла уехать. Пока он тут – решила – и я буду тут. А там видно будет. Кончилось тем, что предложил он мне выйти за него замуж и ехать к его родным. Парикмахеры они. И русских они очень уважают, потому что какая-то прабабка у них русская… Я, смеялся Марио, продолжаю традицию. Тебя примут, как королеву. Ты ведь Зинаида, это значит дочь Зевса. Он очень увлекался литературой».
Лидочка. Про Зевса мне рассказал, про Данаид. Чего говорить? Не знала я этого. И немцев он не любил. Говорил, что это противоестественно, что они союзники немцев, а не наши. Мы всегда в войнах дураки, говорил. И мама мне сказала: езжай, раз он тебе нравится. В конце концов: война не вечна. Купил мне Марио на толкучке белые туфли, а мама платье сшила из муслина, и пошли мы жениться. «Нонсенс! Нонсенс!» – говорил немец из комендатуры, но все-таки выдал нам официальную бумагу и даже речь произнес. Я ничего не понимала, спрашиваю у Марио: что он говорит? Он наклонился ко мне и говорит: «Глупости, Зиночка!» А потом после сказал, о чем немец философствовал. Что мы, дескать, своим союзом подводим итог и начинаем новые отношения между народами. Я тогда спросила у Марио, а как он думает. Он вздохнул и сказал: надо тебе скорей уезжать, а меня ранит в правую руку, я тебе обещаю. Я знаю как… Ничего он не знал. Его свои же за самострел расстреляли.
Поехала я неизвестно куда, а попала на работу в лагерь для военнопленных. Испугалась я этого, Лидочка, сил нет. Как же я смогу там работать? Но повезло мне – заболела. Что со мной было – не знаю. Только я ни ходить не могла, ни смотреть, ни говорить, как паралик стала. Провалялась в больнице месяц с лишним. Вышла я как-то во двор больницы, я уже ходить начала, потом за ограду вышла, так и пошла, пошла домой. К маме. В сером халате и тапочках. Никого я не боялась, спала где придется, ела тоже. Где-то мне дали юбку, кто-то дал галоши, пускали переночевать, а расспрашивать не расспрашивали, тогда много девчат домой пробивалось. Вы скажете, зачем шла. Было у меня одно в сердце: дойти до мамы. Мы ведь с ней тогда прощались насовсем; не дай бог вам, Лидочка, прощаться когда-нибудь с живым родным человеком насовсем. Я так думала: если я дойду домой – есть Бог.
И дошла, а мамы уже не было. Она очень скоро умерла после того, как я уехала. А держалась хорошо, дождусь, говорила, как война кончится и нечего будет тебя стыдиться. Смерть мамы у меня на совести, Лидочка. Не дай бог кому носить такой грех. А тут Маня вернулась из эвакуации. Ну, думаю, вот кому я все расскажу – и про убитого, и про то, какой Марио был хороший, в общем, про все, все, все. Во-первых, Маня вроде как родственница, через Леню. Во-вторых, она всегда была человеком справедливым, вникающим. Так мне казалось. И пошла я к ней. А тут она сама мне навстречу. Я к ней кинуться хотела, а она видит, что я к ней вроде рвусь, остановилась, смотрит на меня с такой ненавистью, а потом ка-а-ак плюнет… Повернулась и пошла. Спина каменная, лопатки сдвинула, вся как неживая, как из железа сделанная. Идет и аж звенит вся от возмущения. И превратила меня эта железная Маня, Лидочка, в камень. Так я, каменная, и стала жить.