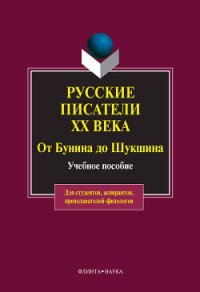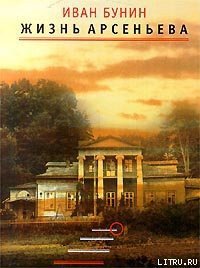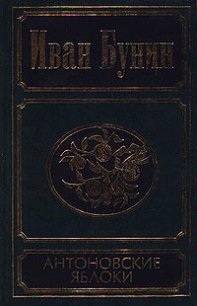Жизнь Бунина. 1870 - 1906. Беседы с памятью - Бунина Вера Николаевна (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
На Рождество мы никуда не поехали, я окончательно поправилась только к праздникам.
Ян страдал от подагры, опускал в горячую соленую воду руки по локоть, по совету Голоушева, который сам страдал от этой болезни, а летом лечился грязями около Астрахани.
От Святок у меня остался в памяти вечер у моего брата Мити. Они с Зинаидой Николаевной жили на Новинском бульваре, {466} в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома Хомякова, председателя Третьей Думы.
У них я встретила бывшую знаменитость, балерину Гейтен, которая была замужем за единоутробным братом Луначарского. Это был совершенно другого вида человек, толстяк с рыжими волосами. Про брата он сказал, что у него «мозги набекрень». Мать их — родная тетка Ростовцева, сестра отца Михаила Ивановича Ростовцева, который, как и Луначарский, обладал способностью к языкам.
Михаил Иванович рассказывал, что он не только в совершенстве владеет итальянским языком, но умеет говорить и на диалектах: «Иногда итальянцы спорили, из какого я города», — рассказывал он. Тоже не очень лестно отзывался о своем кузене, хотя и признавал, что тот способный, но Ростовцев не верил, что Анатолий Васильевич социалист по убеждению. В детстве я видала Гейтен в разных балетах, она была очень талантлива, а когда вышла в отставку, то стала давать уроки танцев. Мы, кузины, начали было брать у нее уроки, но заболели дифтеритом, и затея была прекращена.
1910 ГОД
16 января 1910 года исполнилось бы пятьдесят лет Антону Павловичу Чехову. Художественный театр устроил в день его Ангела, 17 января, «литературный утренник».
Станиславский просил Ивана Алексеевича принять участие в торжестве. Иван Алексеевич согласился, отчасти поэтому мы и не поехали на праздники в деревню. Ему не нравилось то, что он написал об Антоне Павловиче после его кончины (это было им прочитано в «Обществе любителей российской словесности», а потом напечатано в сборнике «Знание»). Он проредактировал свои воспоминания о Чехове, но, конечно, они были неполными.
Утренник прошел с аншлагом. Семья Чеховых сидела в литерной ложе справа. Из писателей участвовал только Бунин. Его выступление было удачным. Голос, интонации, речь — все было чеховское; родные и друзья Антона Павловича были так взволнованы, что многие плакали.
Подъем в театре был сильный. С воспоминаниями и чтением рассказов Чехова выступали лучшие артисты.
Чуть ли не на другой день мы обедали у Ольги Леонардовны Книппер, в ее уютной, сильно задрапированной квартирке. Там я познакомилась и с Марьей Павловной Чеховой, она пригласила нас в следующее воскресенье к себе на обед.
У нее собрались все родственники, жившие в Москве. Среди молодого поколения был сын Александра Павловича, Миша, {467} ученик Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов. Они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в передней, что-то изображали шляпами и так забавно, что мы, глядя на них издали из столовой, не могли удержаться от смеха.
Кто-то заметил:
— Это совершенно по-чеховски! Но уже новое поколение!
Через несколько лет мы видели Мишу в «Первой студии Художественного театра», в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи». Игра его взволновала нас до слез. Иван Алексеевич пришел в полный восторг. А в 1915 году, 14 декабря он смотрел его в «Потопе» и с восхищением передавал его игру, предсказывая, что «из него выйдет большой артист».
Мать Марьи Павловны, Евгения Яковлевна, по словам Яна, очень состарилась за эти годы. Они обрадовались друг другу, как родные. Она всегда любила его. И сразу стала бранить Ялту и хвалить московскую губернию:
— Здесь можно и по грибы ходить, их тут много! А там что, одно море!
И до чего она была прелестна в своей наивности. Со мной обошлась приветливо, обрадовавшись, что я москвичка.
Вскоре после утренника памяти Чехова к Ивану Алексеевичу приехали Станиславский и Немирович-Данченко. Благодарили его. Предлагали ему вступить в их труппу. Меня в этот день не было дома. Знаю об этом по рассказу Ивана Алексеевича.
Как-то мы в Кружке встретились с Петром Дмитриевичем Боборыкиным. Ужинали мы вместе, и я к ужасу своему узнала, что еще в ноябре он был с визитом у Ивана Алексеевича, после его избрания в академики. Я сказала, что слышу об этом в первый раз. Он предложил:
— Хотите, я подробно опишу ваше антре?
Меня удивила его наблюдательность, мгновенно он все заметил. Вероятно, он был у нас вскоре после нашего отъезда в Петербург и, когда Иван Алексеевич вернулся, ему забыли передать его карточку. Это не помешало нам приятно провести ужин. Конечно, говорил почти все время Петр Дмитриевич, ведь он не мог не говорить. Его жена никогда не бывала вместе с ним в гостях, так как она не могла при нем и словечка вставить.
Он рассказывал, как он работает:
— Утром, встав в 9 часов и выпив кофию, я отправляюсь на небольшую прогулку и, возвратясь к себе на Лоскутную, если я живу в Москве, сразу сажусь за работу и пишу часа три, каждый день по главе, за месяц — тридцать! И так всегда и везде. Иногда, — продолжал он, смеясь, — я, уходя на прогулку, встречаю возвращающихся писателей — огромного, с длинными ногами и руками, лохматого Скитальца, или красивого {468} Андреева, или небольшого, с цыганскими глазами, Федорова, — это они возвращаются домой спать после веселой ночи...
Потом он неожиданно стал расспрашивать о Капри, о Горьком, о том, каким путем мы вернулись. Я кратко рассказала, упомянув, что наш итальянский пароход весит столько-то тонн. Это замечание привело Петра Дмитриевича в восторг. Я поняла, что ему интересна всякая мелочь и он ценит, когда люди интересуются ими.
Была очередная «Среда» у Телешовых. Жили они тогда на Чистых Прудах в доме Терехова. Я была знакома с детства с ним и его семьей. У них был сын, делавший военную карьеру, имевший красивый голос, но к ужасу родителей женившийся на дочери швейцара.
Когда мы входили в этот подъезд, я подумала: «Не отсюда ли взята у Чехова фамилия Тереховых в рассказе «Убийство»?
На «Среде» было много народу, — читал Леонид Андреев «Дни нашей жизни». В этот вечер я познакомилась со второй женой Андреева, Анной Ильинишной. Ян знал ее в Одессе девушкой, — она была подругой его жены, по его словам, была настоящей красавицей, звали ее все тогда Матильдой. Да и теперь, несмотря на то, что она ждала ребенка, она была хороша. Приехала она в сопровождении Голоушева, вероятно, обращалась к нему за советом, — он ведь был и гинекологом.
«Дни нашей жизни» всем понравились. Ян тоже хвалил пьесу, за что Андреев его не раз упрекал, говоря, что он хвалил ее потому, чтобы унизить его символические драмы... Но Ян был искренен, он находил в пьесе художественные достоинства.
После чтения, обмена мнений и ужина, мы, жены писателей, уселись в гостиной. К нам подсел милый Голоушев, завязался быстро разговор о любви. Сергей Сергеевич сказал, что почти у каждой женщины бывает три любви: одна от Бога, другая от человека, а третья от дьявола. Мы смеялись, некоторые оспаривали, но он стоял на своем. Говорили и о Софье Петровне Кувшинниковой, с которой был дружен Сергей Сергеевич с давних пор. Он задумчиво заметил:
— Вот вам настоящая жрица любви!
Я с детских пор знала ее. Она училась в том же Николаевском институте, где кончили курс моя мать и тетка, была закадычной подругой Анны Петровны Коровиной, от которой мы много слышали о художнице Кувшинниковой, — а она была большим другом нашей семьи. Я смутно припомнила, что в детстве, когда мы вместе с Анной Петровной гостили в имении бабушки, то читались возмущенные письма Кувшинниковой по поводу Чехова и велись бесконечные разговоры на эту тему.
Потом Тимковская и Вересаева завели разговор о том, что надо и пора писателям самим издаваться, а не давать разным {469} издательствам наживаться на них. Мы говорили о трудностях, указывали на неопытность писателей, их неделовитость, но они стояли на своем, уверяя, что это труд небольшой, а опыт придет, — ведь не боги горшки обжигают. Обе они были одушевлены этой идеей. Вероятно, их мужья разделяли это мнение.