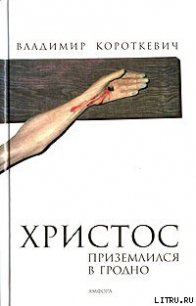Колосья под серпом твоим - Короткевич Владимир Семенович (читать книги полностью .TXT) 📗
— Позволь спросить, чем обязан?
— Целиком наш. Не обижайся, я тоже был в таком положении. Еще и теперь меня знают меньше других. Ты и еще несколько человек будете как резерв на случай провала основного ядра. Учти, что тебе очень верят. Я сказал, что ты думал о перевороте и начал предпринимать первые шаги к нему на несколько лет раньше меня…
— Ну, что ты…
— Так вот. Третья ступень — это казначей, библиотекарь общей библиотеки, еще два члена и библиотекарь подпольной библиотеки.
— Это кто?
— Я… А всего, значит, пять. Они составляют верхушку «Огула». Никто не знает о ее существовании. Известны только казначей и библиотекарь общей библиотеки. Как и всюду, они имеют право решающего голоса. Но так во всех «землячествах». На самом же деле наша пятерка рекомендует людей связному. Тот занимается с ними лично и, подготовив, рекомендует дальше.
— Это Виктор, — сказал Алесь.
— Почему так думаешь?
— Кто же еще может лучше руководить чтением, советовать, какую книгу прочесть?
— Ты прав. Не только я, но большинство обязано ему. Отобранные им люди попадают в кружок, который для непосвященных называется «Литературные вечера».
— И в этом кружке ты, Виктор и еще из тех, кого я знаю, пожалуй, Валерий.
— Тьфу ты черт, сказал Кастусь. — Шел бы ты на место Путилина, [126] кучу денег заработал бы.
— Брось, Кастусь, просто я тебя знаю. Да и семь лет прожить со старым Вежей — это, брат, тоже школа. Ну что «Вечера»?
— Ты попадешь туда. Надеюсь, скоро. Люди там исключительные. Во-первых, глава — Зигмунт Сераковский. О нем я тебе писал. Семь лет ссылки, семь пядей во лбу, семь добродетелей. Об остальных пока не надо. Сам увидишь. Да и круг их все время увеличивается.
— Поляки?
— Разные.
— Что думают о нас?
— Часть думает вот как: восставать вместе. Судьба Белоруссии и Литвы решается плебисцитом ее жителей. Значит, или самостоятельная федерация, или автономия в границах Польши, политическая и культурная. Как скажет народ. Врублевский, например, считает, что при нынешнем народном самосознании плебисцит нельзя допустить ни в коем случае. Он так и говорит, что просто Польше надо отказаться от прав на Беларусь и Литву, поскольку в свое время дворянство страшно скомпрометировало самую идею такого союза. Добрые соседи, братья — вот и все.
— Почему ты говоришь «часть»? — спросил Алесь. — Разве есть такие, что думают иначе?
Калиновский помрачнел.
— В том-то и дело, что с самого начала существует угроза раскола. Я говорю: лучше с самого начала от соглашателей, шовинистов, патриотов костела и розги освободиться. Распуститься для вида, а потом верным и чистым ткать стяг заново. По крайней мере единство.
— По-моему, верно.
— Зигмунт протестует, — с огорчением сказал Калиновский. — Излишняя вера в соседа, излишняя доверчивость.
— Кто б винил! — сказал Алесь. — И ты не лучше.
— Что? Разве это так? — испугался Кастусь.
— К сожалению, да.
— Понимаешь, со своей стороны Зигмунт прав. Слишком нас мало. Если отбросить их, нас останется горстка. И потом — до определенного рубежа нам с ними идти одной дорогой. Мы за свободу, они за независимость.
— А потом что, измена?
— Я и говорю. Эдвард Дембовский [127] понимал восстание правильно. Прежде всего свобода и равенство всех людей. Но мы пока вынуждены идти на союз с ними. Мало нас. Ах, черт, как мало!
— Кто они?
— Белые. Так мы их называем. «Ах, родина! Ах, величие! Ах, слава!» Знаешь, зачем им бунт? Чтоб привилегий своих не потерять, чтобы до власти дорваться.
Довольно скверно.
— Спят и во сне видят своего короля, своих отцов церкви, свои приемы, балы, свою полицию, своих палачей на отечественных эшафотах. Хоть паршивое, да свое.
— Песня знакомая, — сказал Алесь. — Лизогубова песня. Да и сегодня ее слыхал.
— Где?
— От Ямонта. Не нравится мне Ямонт, Кастусь.
— Ну, Ямонта с ними не смешивай. Ямонт — идеалист.
— Тебе лучше знать. Но белых я на вашем месте гнал бы.
— Будешь вместе со мной драться?
— А что я, молиться сюда приехал?
— Хорошо, — сказал Кастусь. — Руку.
— А кто еще есть?
— Еще, как и всюду, болото. И политики им хочется, и дипломов, и чтоб царство божье само пришло. Очень уж им не хочется драки. Кричат, что это уже только тогда, когда ничего другого сделать нельзя.
— Этих надо переубеждать.
— Да… Ну, и, наконец, мы, красные.
— Это ясно. Восстание. Социальный переворот. Это по мне.
Кастусь смотрел на него удивленно:
— Выродок ты, Алесь. Тебе по происхождению самый резон к белым. Они богатые, а мы голь. Они либералы, мы якобинцы и социалисты. Они собираются церкви да заводы строить, мы…
— Хватит, — прервал его Алесь. — Распелся. Я белорус. И если уж они о власти над моей землей кричат, то я им не товарищ. Мне своя калита не дорога. Мне моя земля дорога. Она мне нужна. Вы за нее, — значит, и я с вами. А то, что я князь, дело десятое. Никого это не интересует. А меня меньше всех… Давай обождем хлопцев. Вот мы и дома.
…Все сидели за столом и ели, аж за ушами трещало, когда Аглая позвала Алеся за дверь.
Стояла перед ним, красивая, вся словно литая, говорила тихо:
— Хлопцы какие! Ну, Кастусек — этого знаю. Но и остальные! И поляк этот! А ужо Эдмунд… Держитесь за них, панич!
— Собираюсь!
— Вот это хлопцы!
— Что, поцеловала б?
— А что, грех?
Аглая вдруг посерьезнела.
— Я не о том, панич. На это я дозволения спрашивать не буду. Будут они к нам ходить?
— Обязательно.
— Панич… Вы Виктора приглашайте. Чаще всех. Как увидите, так и приглашайте. Даже сами шукайте и приглашайте.
— Что, понравился?
Женщина отрицательно покачала головой.
— Чахотка у него. И давненько уже…
— Ты что? Да он мне сам говорил, что здоров, как конь. А он ведь медик.
— Значит, сам не знает… Кормить треба, кормить. Мед, масло, сало, медвежий жир. Салом залить.
— Не мели. У него, у такого хлопца?
— Смерть что, выбирает? Панич, слушайтесь меня. Он не бачит, все не бачат. А я добре бачу… Думаю я, не поздно ли уже?
Алесь наконец поверил и похолодел.
Из столовой донесся веселый смех Виктора.
Снег. Снег. Та погода, в которую шляхтич Завальня ставил на окно свечу. Метель. Белые змеи, встав на хвосты и подняв в воздух тело, десятками трепещут и изгибаются над сугробами.
Сквозь слюдяные оконца кибитки видно, как не хочет лежать на месте снег, как он стремится в черные лесные дебри, как заиндевели крупы лошадей.
До Вежи еще далеко.
Клонит ко сну.
Чтоб не уснуть, Алесь думает. О друзьях из «Огула», о встречах у него на квартире (добился-таки этого!), о том, что за эти пять месяцев организация увеличилась на семьдесят два человека. И десятерых хлопцев из «Огула» передали Виктору.
И еще о том, что кружок Сераковского начинает превращаться в настоящую организацию и осенью можно будет уже думать о делах, о планах на будущее.
С улыбкой вспоминался один из последних споров. На тему — что делать, кроме подготовки восстания, тем, кто из помещиков. Ямонт плел что-то о том, что надо переубеждать своих крестьян, что дворяне хороши, а царь плохой. Загорский взглянул на Кастуся, но тот подморгнул ему, пожал плечами. Ничего не поделаешь, идеалист. И тогда Алесь поднялся и сказал, что это типичный белый бред. Никогда не переубедишь словами. Если кто-то хочет, чтоб его считали хорошим, пусть совершает хорошие дела. Рассказал о проекте отца, борьбе вокруг него и добавил, что тем, кто орет о хорошем отношении к мужику, стоило б подарить ему волю прежде, чем это сделает царь, и на более льготных условиях. Тогда никого не надо будет агитировать. За хорошее, за жизненные блага никого долго агитировать не надо. А если уж агитируют паны и днем и ночью, так и знай, что что-то неладно, и хорошо еще, если только обмануть собираются. «Я думаю, пока что к чему, надо хоть этих, хоть своих людей освобождать. И это будет наилучшей агитацией для восстания и лучшим средством для обеспечения его победы».