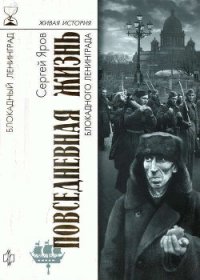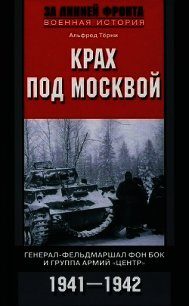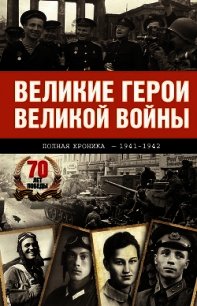Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг. - Яров Сергей (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Глава II. Самоконтроль
Программы поведения
1
Во время катастроф естественным являлось желание людей выработать для себя устойчивые правила поведения. Они не были новыми. Главным доводом могло стать желание «оставаться человеком». Жить для других – этот нравственный эталон не возник в одночасье. Проверка себя на соответствие идеалу являлась приметой многих дневников 1930-х гг., особенно юношеских. В военные годы ощущение беды придавала ей особый смысл. Проявлялись, хотя и не всегда, отчетливость идеала и его политические мотивы.
Одной из побудительных причин могло быть ощущение себя как примера для подражания, как человека, чей подвиг признан, который должен каждый день подтверждать свои высокие нравственные качества. «Мы продолжаем смотреть великую пьесу и играть в ней. Она затянулась. Если акт считать за месяц, нарушены все законы мировой драматургии» – не все были готовы говорить столь высокопарно, как литератор А. Тарасенков [1759], но признание беспримерности ленинградской эпопеи звучало повсеместно. «Где еще столь стоически, столь героически ведется борьба и выносятся лишения за свободу» – дневниковая запись К. И. Сельцера [1760]выглядит не столь эффектной, но она более типична в ряду других документальных свидетельств. Создание программы поведения неотделимо от этого пафоса стойкости, иногда нарочито демонстрируемого себе и другим – в дневниках, которые, как считали, позднее прочтут потомки, в письмах, которые будут оценены сегодня не только родными. Все это так. Но велись и дневники, явно не предназначенные быть образцом назидательного чтения – с бесконечным перечислением граммов продуктов, которые удалось получить, уловок, на которые шли ради этого, мелких обид, слухов и подозрений, беспочвенность которых подтверждалась здесь же. То же можно сказать о письмах – порой не очень грамотных, с житейскими просьбами и жалобами.
Их авторы не претендовали на создание всеобъемлющих программ поведения. Для кого-то необходимость «держать себя в руках» диктовалась тем, что «события огромны, невероятны» [1761]. Обычно же составление программы поведения являлось скорее следствием оценок эпизодов собственной биографии. Как правило, эпизоды эти драматичны. Е. К. Белецкая рассказывала, как она случайно встретила одного из сотрудников НКВД, который ранее помогал ей. Тот был истощен, «едва передвигал ноги». При виде его Е. К. Белецкая не смогла скрыть своего испуга и причину его сразу понял ее знакомый. Было неловко, она укоряла себя позднее за то, что поступила неделикатно. «Эта встреча заставила меня по иному, более чутко, относиться к окружающим, стараться по мере сил и возможностей помогать всем», – писала она впоследствии [1762]. Очевидно, причиной был не только этот случай – человека черствого и целая череда таких эпизодов едва ли сделает добрым. Оценивать подлинную значимость той цепочки аргументов, которая определила нравственный выбор, весьма сложно. Здесь важна не столько точность деталей, сколько ощущение самого озарения. Яркость, наглядность и поучительность этой сцены может быть острее позволила почувствовать жалость к погибающему человеку, и потому это прочнее удержано в памяти и оценено по высшему счету – им и проверяются все другие поступки.
Для И. З. Дрожжиной вехой нравственного обновления стала весть о пожаре, в котором чуть было не погибла ее мать. Судьба ее семьи трагична. В одночасье она лишилась младенца, пришло известие о смерти на фронте мужа и брата, погибла при бомбежке ее дочь. Ставшая безучастной ко всему (а иначе как выжить), она плохо заботилась и о матери – пока не случился пожар. «Тут я почувствовала угрызения…: мало я уделяю внимания матери, ведь ей 73 года, а я даже редко ее вижу… решила, что буду больше беречь мать, ведь она одна осталась у меня» [1763].
Крепость родственных связей не определяется лишь примитивной арифметикой – у нее другие, более сложные законы. Страх ежедневного ожидания сиротства, еще не испытанного, усиливается напластованием сцен блокадного быта – коротких и продолжительных, отчетливых и смутных – но одинаково подчеркивающих хрупкость человеческой жизни. Ввиду краткости рассказа И. З. Дрожжиной ее путь к обретению (или вернее закреплению) нравственных максим оказался несколько спрямленным; кроме того, здесь проступают формы обычных житейских назидательных апологий. В этом коротком поучении для себя мы видим ряд правил семейной этики, выявленных с особой силой именно в виде программы поведения: мать нужно беречь, поскольку она одинока, необходимо заботиться о ней ввиду ее преклонного возраста, должно чаще встречаться с ней.
2
Этика – этому способствовала сама блокадная повседневность – в значительной мере обязана была быть избирательной. Надо заботиться о родителях, но мать иногда считали необходимым опекать лишь тогда, когда никто другой не был способен на это. Надо помогать детям – но паек приходится делить поровну, чтобы выстоять всем. Должно отдавать хлеб нуждающимся – но обычно в том случае, если это были самые близкие люди. Везде освященные традициями этические нормы поправлялись так или иначе «злобой дня». Исполнять свой нравственный долг полностью и до конца вряд ли кому было под силу в это время.
Записи в дневниках, исповедь в письмах – все это обязательно предполагало некую толику самоанализа, а как при этом могли не касаться самых жутких примет осадного времени. Оценка стойкости, доброты, самоотречения – все через хлеб, кашу, дрожжевой суп. Человек слышит бесконечные разговоры о еде – и дает себе зарок не участвовать в них, не поддаваться общему унынию. Такие действия – и часть самопроверки. Б. Злотникова писала в дневнике, что хочет выработать в себе терпение. Она уверена, что это ей под силу – но что делать с «желудком»? «Здесь, к сожалению, запятая» [1764], – отмечает она, но тот же вопрос задавали себе и другие и пытались ответить на него иначе.
«Слишком много людей вокруг хнычущих и ноющих» – записывает И. Д. Зеленская в дневнике 7 декабря 1941 г. [1765]. Как при этом не подчеркнуть свою особость, не дать почувствовать, что у тебя сильная воля и ты во многом отличаешься от других – ведь это одно из средств самоутверждения. «Ноющие» вызывают раздражение – а кто хочет оказаться среди презираемых и отверженных. Упасть ведь так легко – но пусть увидят и того, кто не упал, несмотря ни на что. Исполнить эту заповедь трудно. И. Д. Зеленская замечает, что и характер у нее «портится», она чаще «выходит из себя» и не может заглушать чувство голода, и ей трудно «сводить к минимуму съестные разговоры» [1766]. Как же себя вести? Что должно стать заслоном против блокадной повседневности, разъедающей все: и дух, и тело? Выход один: стоять прочно – и до конца. Слышишь раздраженные реплики о хлебе – не поддерживай их. Хочешь пожаловаться – остановись и следи, следи за каждым своим шагом, распознавая, откуда придет соблазн – и закрывай накрепко двери. Такова логика «оптимистических» записей в дневнике И. Д. Зеленской: «Ни одного слова подавленности или упадка» [1767].
0 них, правда, приходится говорить еще и еще раз, чтобы прочнее убедить себя в правильности выбора, отчетливее провести границу между человеческим и нечеловеческим. Дневниковая запись 22 ноября 1941 г. представляет своеобразный поток сознания, в котором есть все – настойчивость в отстаивании жизненного идеала, ощущение своих бед и, наконец, рецепт преодоления «животного начала» – не слишком подробный, но четкий. Он не был новым. И. Д. Зеленская только повторила его с присущей ей решимостью: «Нет, я все глубже убеждаюсь, что спастись можно только внутренней энергией, и я не сдамся до последнего, пока еще тело будет повиноваться воле. Что из того, что я тоже ощущаю эту отвратительную свинцовость в ногах, что я стала с усилием подыматься на второй-третий этаж, когда мне недавно и шестой давался легко. Все это можно преодолеть, если не прислушиваться к каждому минусу, заставлять себя двигаться быстрее, не думать о еде и особенно не жаловаться ни на что, ни себе, ни другим. Только так и можно продержаться, и я продержусь и еще помогу другим, кто сумеет и пожелает воспользоваться моим опытом» [1768].
1759
Тарасенков А.Из военных записей. С. 26.
1760
Сельцер К. И.Дневник. Цит. по: Глезеров С.От ненависти к примирению. С. 48 (Запись 18 октября 1941 г.).
1761
М. Д. Тушинский – Т. М. Вячесловой. 12–15 октября 1941 г.: ОР РНБ. Ф. 1273. Л. 4.
1762
Запись рассказа Е. К. Белецкой цит. по: Того В.Потерявший родину плачет вечно. М., 2001. С. 103–104.
1763
Запись рассказа И. С. Дрожжиной цит. по: Александрова Т.Испытание. С. 189.
1764
Злотникова Б.Дневник. 15 ноября 1941 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 40. Л. 23.
1765
Зеленская И. Д.Дневник. 7 декабря 1941 г.: Там же. Д. 35. Л. 39.
1766
Зеленская И. Д.Дневник. 29 октября 1941 г. Л. 25 об.
1767
Зеленская И. Д.Дневник. 7 декабря 1941 г. Л. 39.
1768
Зеленская И. Д.Дневник. 22 ноября 1941 г. Л. 35.