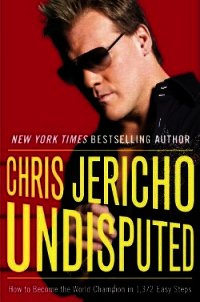Первичный крик - Янов Артур (список книг txt) 📗
Детские страхи
В большей части случаев дети начинают испытывать страх, когда ложатся спать и остаются одни. Ребенок может иметь достаточно мужества, чтобы нырнуть в воду с вышки, но ощущать панический страх перед темнотой. Отчасти, причина заключается в том, что во втором случае ребенок остается наедине с самим собой. Этот страх имеет ту же природу, что и страх, который испытывают начавшие курс первичной терапии пациенты, которые остаются ночью одни в номере отеля. Это страх «самого себя». Ребенок часто отрицает такой страх, проецируя его вовне, на других, говоря, что в действительности он боится грабителей. Умом ребенок реагирует на совершенно реальные стимулы — на шелест листвы, стук гаражной двери, тень на стене. Каждый шум, каждая тень помогает оправдать скрытый страх.
Родители ни в коем случае не должны силой лишать ребенка его страхов. Очень легко сказать: «Тебе нечего бояться. В чулане никого нет. Не будь младенцем. Яне оставлю тебе свет. Прекрати эти глупости». Такие слова лишь загонят страх глубоко внутрь, и погребенный страх начнет проявляться недержанием мочи или телесными заболеваниями. Если родитель не может понять природу детского страха, то лучше побаловать ребенка и пойти у него на поводу, чем стараться подавить его страх.
Многие из нас в детстве страдали ночными страхами, и большинство из нас так и не переросли их. Правда теперь мы боимся не страшного печника, прячущегося в кладовке, а смутно опасаемся, например, заговора, который плетут против нас люди какой?то национальности или социальной группы. Содержание этого очевидного, явного страха может измениться, но это содержание несущественно. До выздоровления от невроза нам будет нужен печник — неважно, в каком виде он будет нам являться.
Но что же возбуждает в нас страх, когда мы остаемся одни в темноте? Решающую роль в возникновении страха играет смутное, едва зарождающееся понимание того, что приближается сон, а это значит, что приоткроются ворота крепости и в нас может хлынуть толпа демонов, которых сознание отгоняло во время бодрствования. В принципе, нет ничего пугающего в самом одиночестве. Страх гнездится в душе самого невротика, который постоянно бежит или защищается от самого себя. Ему требуется включенное радио или работающий телевизор, чтобы не чувствовать это устрашающее одиночество. «Одиночество» для невротика означает нечто совершенно иное, нежели для душевно здорового человека. «Одиночество» невротика — это отсутствие поддержки, защиты и любви со стороны родителей, и именно от этого и надо защититься. Детские страхи усугубляются, если родители на весь вечер уходят из дома; именно в эти моменты может возникнуть страх смерти, который ребенок ассоциирует со сном, так как в раннем детстве остаться без родительской защиты может — в представлениях ребенка — обернуться смертью.
Обсуждение
Поскольку содержание любой фобии символично и уникально для каждого больного, то не существует какого?то универсального смысла для всей их совокупности. Два человека с одинаковыми фобиями могут иметь разные источники их возникновения. Для одного человека страх высоты может быть связан с чувством отсутствия почвы под ногами (лишение поддержки), а для другого это страх перед прыжками с высоты. Можно потратить всю жизнь на попытки разгадать значение фобии, ее истинное содержание. Усилия надо сосредоточить на другом — на реальных страхах. После ощущения и переживания реального страха фобия становится ненужной.
Эффективность и ценность первичной гипотезы относительно страхов подтверждается тем фактом, что фобии исчезают и не возвращаются в какой бы то ни было форме после того, как больной переживает свой реальный страх. Хочу еще раз подчеркнуть, что никакое текущее иррациональное поведение невозможно разрешить, воздействуя на иррациональное; никакая логика, никакие факты не способны устранить иррациональный страх. Возникновение неприятных ситуаций не порождает иррационального поведения у здоровых людей. Основа фобии (первичного страха) есть нечто вполне реальное; только текущий контекст делает фобию иррациональной.
Существует большое искушение думать, что кто?то извне может тем или иным способом разрешить текущие проблемы пациента. Вся идея консультирования и просвещения невротиков, снабжения их брошюрами, излагающими голые факты (например, метедрин разрушает ткань печени) представляется мне в корне ошибочной. Информация играет, конечно, определенную положительную роль, но иррациональные силы, стоящие за патологическим поведением суть первичные силы. Впрыскивание отдельных разрозненных фактов не в состоянии остановить и обратить вспять первичный поток. Психологическое консультирование и убеждение больного в том, что надо быть внимательным и нежным по отношению к жене и детям, будут мало что значить для человека, которому приходится десятилетиями подавлять в себе ярость, ждущую высвобождения и разрешения. Надо твердо усвоить, что мы имеем дело не со страхами и гневом; мы имеем дело с людьми, страдающими от страха и гнева. Первичная терапия призвана помочь людям пережить великий страх, обусловленный ранним детским опытом, чтобы все дальнейшие переживания не сопровождались патологическими страхами.
Ким
Семена моего невроза были посеяны в раннем детстве, когда я жила в родительском доме. Эта тема красной нитью проходит через все мое детство, так как мои родители выражали свою любовь ко мне только и исключительно материальными подарками. Яне помню, чтобы меня ласкали или брали на руки. Тем не менее, я никогда не могла признаться себе, что родители меня не любят. Я чувствовала себя безобразной и злой, но не чувствовала и даже не осознавала умом значение и последствия этого отсутствия любви.
Но откуда я теперь знаю, что мои родители никогда не любили и уже не полюбят меня? Не так давно мать рассказала мне об одной сцене (точно таким же тоном она могла рассказать мне об эпизоде бейсбольного матча), — когда отец впервые увидел меня, вернувшись домой с войны в 1945 году. Он заставил мать разбудить меня, посмотрел на меня, убедился, что я такая же, как все другие дети, и вышел из комнаты. Услышав этот рассказ я несколько часов безутешно рыдала. Конечно, я не помню этой сцены, но я знаю, что на протяжении целого года после нее я каждую ночь исполняла один и тот же ритуал: вставала на четвереньки и начинала биться головой о прутья кроватки. Думаю, я просто боялась остаться одна, боялась, что меня бросили. Я стучала головой о прутья для того, чтобы напомнить родителям, спавшим в соседней комнате, о моем существовании.
Другим свидетельством отсутствия любви было то, что отец ясно дал понять, что хотел мальчика. Он постоянно подначивал и изводил мать за то, что она не смогла родить сына. Мне всегда коротко стригли волосы. Когда я приходила домой из школы, мне всегда велели переодеваться в джинсы и футболку. Позже я пила пиво с отцом, когда мы по выходным смотрели футбол. Так как он хотел сына, то таким сыном должна была стать я, чтобы заслужить его любовь.
В конце концов, произошел один инцидент, во время которого отец прямо заявил мне, что никогда не мог любить меня в моем естественном виде, то есть, я должна стать кем?то другим, чтобы завоевать его любовь. После этого спора по телефону (я в то время училась в колледже) он написал мне «примирительное письмо», в котором просил не тревожиться по поводу нашей размолвки. Он просил меня вернуться на лето домой, чтобы мы смогли создать новую Ким — то есть, личность, которая удовлетворила бы нас обоих.
Любовь, которой дарили меня родители, принимала форму бессмысленных ограничений и жесткой дисциплины, к которой меня приучали «ради моей же пользы». Мне приходилось просить особого разрешения, чтобы делать то, что другим детям позволяли делать просто так: остаться ночевать дома у подруги, приглашать домой друзей, иногда не ложиться спать вовремя. По утрам, встав с постели, я должна была по списку сделать десять каких?то вещей. Только после этого мне можно было уйти из дома. (Я убеждена, что мать не спала ночами, составляя эти проклятые списки из десяти пунктов.) Эти ограничения и обязанности сделали меня нервным и раздражительным ребенком. Неподчинение и проступки наказывались поркой, когда я была маленькой, а позже оплеухами и запретом на выход из дома в свободное время сроком на один месяц — когда я стала подростком. Это «соблюдение справедливости» сопровождалось сердитыми криками и ворчанием. Помню, как мой отец, после таких ссор, заходил в мою комнату и принимался допытываться, отчего я строю из себя такую несчастную и так плохо себя веду, несмотря на то, что у меня есть все, чего я только могу хотеть. Но что я могла хотеть? Я никогда не могла ответить на этот вопрос. Он постоянно сбивал меня с толку. Действительно, казалось, что у меня есть все. Мне ни разу не пришло в голову сказать, что единственное, чего я от него хочу — это любви; я хотела, чтобы он любил меня и не скрывал этого. Кажется, я разучилась высказывать вслух мои желания. Я не могла попросить его об этом прямо, так как не хотела рисковать — я не пережила бы его отказа. Тогда мне пришлось бы признать и почувствовать, насколько сильно не хватает мне его любви, и как мне больно оттого, что он меня не любит. Вместо этого я скрывала желание под покровом смутного, угрюмого, но очень сильного гнева. Я никогда не отвечала на этот вопрос отца.