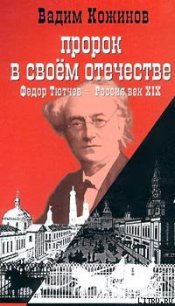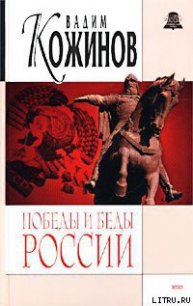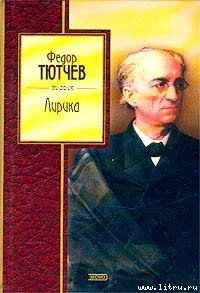Тютчев - Кожинов Вадим Валерьянович (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Не только стихи, но и многие тогдашние письма поэта, обращенные к целому ряду людей, исполнены такой предельной откровенности, такой обнаженности души, которая вообще-то не была ему свойственна. В свое время дочь Анна записала о нем в дневнике: «…Будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малейший оттенок сентиментальности, он очень редко говорит о том, что испытывает». Теперь же поэт готов, кажется, до конца излить душу перед многими людьми.
Более того, впервые за четверть века с лишним в нем пробуждается желание обратиться к церкви. Как уже говорилось, отношение Тютчева к религии и церкви было чрезвычайно сложным и противоречивым. Видя в христианстве почти двухтысячелетнюю духовно-историческую силу, сыгравшую громадную роль в судьбах России и мира, поэт в то же время пребывал на самой грани веры и безверия. Это решительно отличало его от Гоголя, Достоевского и даже Толстого, который, при всем своем бунте против церкви, все же был безусловно верующим человеком.
Еще в 30-х годах Тютчев написал стихотворение (опубликованное лишь после его смерти), в котором сказано:
В 1851 году, в одном из значительнейших своих стихотворений «Наш век», он говорил, что современный человек (то есть конечно, и он сам, Тютчев) даже и Не скажет ввек, с молитвой и слезой, Как ни скорбит перед замкнутой дверью: «Впусти меня! — Я верю, Боже мой! Приди на помощь моему неверью!..»
В своей биографии поэта Иван Аксаков, последовательно религиозный и церковный человек, очень стремившийся, кстати, так или иначе связать, сблизить Тютчева со славянофилами, — все же не мог, в силу своей честности, не сказать, что в отношении к религии Тютчев был очень далек от него самого и его единомышленников.
Даже о присущем поэту духовном смирении Аксаков писал, что оно представало «не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти народное свойство… с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и постоянное же сознание своей личной нравственной немощи… Он возводил смирение на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому я было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе». (Ярчайшее выражение этого Тютчев, как уже говорилось, видел в явлении бонапартизма.)
К этому следует добавить, что и в истории христианства поэт ценил прежде всего ту нравственно-историческую стихию, которая всецело противостояла «обожествлению человеческого я»; потому он и отвергал католический «папизм» (но не — как мы еще увидим — католицизм вообще) и протестантство.
Аксаков недвусмысленно писал о поэте, что «его «пламень» не был в нем тем светлым «горением духа», к которому призывают людей учителя христианства». Что же касается тютчевского восприятия церкви в собственном смысле слова, Иван Аксаков сказал об этом с полной определенностью: поэт «был совершенно чужд в своем домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии».
Речь идет — это надо подчеркнуть — именно о личном, коренящемся в самых глубинах духовного бытия, отношении Тютчева к церкви. Поэт достаточно часто присутствовал на церковных службах и церемониях, но не в качестве их прямого участника, а как созерцатель воплощающейся в них духовно-исторической силы. Выше приводился тютчевский рассказ о том, как в 1843 году он по просьбе матери стоял с ней перед знаменитой иконой Иверской божьей матери (в часовне у Красной площади).
Очень характерен и его рассказ в письме к жене от 7 августа 1867 года: «Я в виде развлечения ездил к Троице присутствовать на юбилее митрополита Филарета Московского. Это действительно был прекрасный праздник, совсем особенного характера — очень торжественный и без всякой театральности… Маленький, хрупкий, изможденный до последней степени [99], однако со взором, полным жизни и ума, он господствовал над всем происходившим вокруг него, благодаря бесспорной нравственной силе… В виду всего этого прославления он был совершенно прост и естествен и, казалось, принимал все эти почести только для того, чтобы передать кому-то другому — кому-то, чей он был только случайный уполномоченный. Это было очень хорошо. Это действительно было торжество духа… Во всех… подробностях чувствовался отпечаток Восточной Церкви. Это было величественно — и вполне серьезно».
Совершенно ясно, что Тютчев говорит здесь прежде всего о тысячелетней нравственно-исторической силе. Между тем Аксаков, зная, конечно, о таком тютчевском восприятии церкви, толковал его едва ли правильно. Тот факт, что Тютчев не «жил» в церкви, а только созерцал ее, Аксаков весьма неубедительно выводил попросту из его «заграничной долгой жизни в местах, где не было ни одного русского храма».
Что же касается «недостатка веры» в Тютчеве, Иван Аксаков попытался объяснить этот недостаток некой безнадежной слабостью его духа… Он заявил, что поэт мучился «сознанием недосягаемой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию». Тютчеву, не без жесткого критического пафоса писал Аксаков, «не суждено было… обрести и того мира, который… дается лишь действием веры… равномерным, соответственным развитием и деятельностью в человеке всех его нравственных сил… Пустота в человеке, если не христианских верований, то христианских убеждений, каким был несомненно Тютчев, могла быть наполнена лишь одним высшим содержанием — деятельностью, — деятельностью не одной мысли, но в других нравственных сторон духа. Ум Тютчева парил а даль и в высь, в самых отвлеченных областях мышления, — а сам он, будто свинцовыми гирями, прикован был, как любят выражаться поэты, долу: немощью воли, страстями, избалованностью — ненавистницей работы и усилия».
Здесь, собственно, сразу два в общем-то различных по своей сути обвинения: Аксаков усматривает в жизненном пути Тютчева и недостаток действия всей цельности нравственных сил, которое одно могло бы привести поэта к истинной вере, и, с другой стороны, недостаток деятельности вообще.
Что касается первого обвинения, Иван Аксаков, как ни странно, сам себе исчерпывающе ответил в следующей меткой характеристике жизни тютчевского духа: «Как обозначить край познаванию истины? Как удержать пытливость бдящего духа?.. Он не мог ни загасить, ни ослабить сжигавшего его пламени, ни смирить тревожных запросов мысли, — он не мог удовлетвориться дешевою сделкою между постигаемым и непостижимым…» Про таких людей, каким был сам Аксаков, можно бы сказать, что они обретали это «удовлетворение», но Тютчев действительно не мог его обрести…
Второе обвинение — в «недостатке деятельности вообще» — обусловлено тем, что Аксаков и Тютчев совершенно различно относились к самому понятию «деятельность», о чем еще будет речь.
Беззаветной и поистине сжигающей была вера Тютчева в Россию, так мощно и проникновенно воплотившаяся в его поэзии. Эта вера, вспыхнувшая еще в отроческой душе в 1812 году, расширялась и углублялась на протяжении всей жизни поэта. Ни в коей мере не закрывая глаз на темные и больные стороны современной ему действительности, он все более уверенно прозревал неиссякаемые нравственные первоосновы русского народного бытия и сознания.
Тютчев вовсе не склонен был идеализировать даже и самое «темную толпу непробужденного народа», о которой он писал в 1857 году в Овстуге:
И тем не менее именно в толще народа он чуял свет пепобедимого стремления к высшему нравственному идеалу. В том же 1857 году он говорил (в письме к жене от 13 мая) о своем видении народных толп, которые «тянутся… пешком со всех концов этого громадного государства. Да, если существует еще Россия, то она там — и только там».
99
Митрополиту было тогда 85 лет.