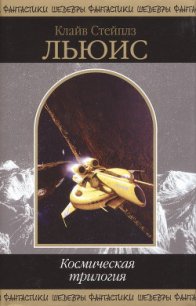Чудо (сборник) - Льюис Клайв Стейплз (читать хорошую книгу полностью TXT) 📗
IX. Не слишком нужная глава
Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
В двух последних главах я рассматривал возражения против чудес, так сказать, со стороны природы. Сейчас следовало бы заняться возражениями с другой стороны и подумать о том, может ли и станет ли творить чудеса то, что вне природы. Но мне очень хочется сделать отступление и ответить сперва еще на один, чисто эмоциональный довод. Если у вас таких эмоций нет, пропустите эту главу. Но меня они когда-то мучили, и если они были у вас, прочитайте ее.
Меня отпугивало, что вера в сверхъестественное требует, как я думал, особого взгляда на природу, и он мне очень не нравился. Я хотел, чтобы природа существовала «сама по себе», и мысль о том, что кто-то ее создал и может изменить, лишала ее, на мой взгляд, столь милой мне непосредственности. Мне нравилось в ней именно то, что она просто есть. Мысли о том, что ее «сделали» и «поставили», да еще с какой-то целью, я просто вынести не мог. Помню, я написал тогда стихи, где, описав природу, прибавил, что некоторым хочется, чтобы за нею был какой-то Дух, с нею сообщающийся. А я, писал я дальше, именно этого не хочу. Стихи были слабые, я их почти забыл, но кончались они тем, что гораздо приятнее ощущать,
«Случайно»! Узнать, что восход солнца кем-то подстроен, было мне так же неприятно, как если бы полевая мышь оказалась заводной игрушкой, которую кто-то поставил у изгороди, чтобы меня позабавить или, не дай Господь, чему-то меня научить. Греческий поэт спрашивает: «Если вода течет в твое горло, чем ее смоешь?» Так и я спрашивал: «Если природа искусственна, что же естественно?» Неужели леса, и ручьи, и уголки долин, и ветер, и трава – всего лишь задник какой-то пьесы, а то и поучительной притчи? Какая пошлость и какая скука!
Это у меня давно прошло, но совсем я вылечился только тогда, когда занялся чудесами. Пока я писал первые главы, мое представление о природе становилось все живее и четче, и я начал побаиваться, что книга будет о ней. Никогда она еще не казалась мне такой значительной и реальной.
Причину найти нетрудно. Пока вы не верите в сверхъестественное, природа для вас – это просто «все». А обо «всем» ничего особенно ценного не скажешь и не почувствуешь, если себя не обманешь. Нас поразит одно – мы говорим о миролюбии природы, поразит другое – и мы говорим о ее жестокости. А потом, по воле наших настроений, мы учимся у нее тому, что нам нравится. Но все изменится, когда мы поймем, что природа сотворена, что она, со всеми неповторимыми свойствами, – творение Создателя. Нам уже не нужно примирять ее противоречия – не в ней, а далеко за ней сочетается несочетаемое и объясняется необъяснимое. В том, что это создание и милостиво, и жестоко, не больше парадоксальности, чем в том, что ваш случайный попутчик нечестен в лавке и добр с женой. Природа не абсолют; она – творение, в ней есть и хорошее, и дурное. И у всех ее сторон свой, особенный вкус и запах.
Когда мы говорим, что Бог сотворил ее, она становится не менее, а более реальной. Разве Бог не даровитее Шекспира и Диккенса? Его творения конкретней Фальстафа и Сэма Уэллера. Богословы учат, что Он сотворил природу свободно. Это значит, что никто Его не заставлял; но это не значит, что Он создавал ее как попало. Его животворящая свобода похожа на свободу поэта: и Тот и другой свободны создать именно такую, а не иную реальность. Шекспир мог и не создавать Фальстафа, но уж если он его создал, Фальстаф должен быть толстым. Господь мог насоздавать много природ; быть может, Он их и создал. Но раз уж Он создал эту, все в ней выражает Его замысел. Ошибается тот, кто подумает, что пространство и время, рождение животных и возрождение растительности, многоразличие и единство живых организмов, цвет каждого яблока – просто огромный ворох полезных изобретений. Это язык, запах, вкус определенного создания. «Природность» Природы выражена в них не слабее, чем латинскость латыни в каждом окончании или рембрандтство Рембрандта в каждом его мазке.
По человеческим (а может, и по Божьим) меркам природа частью плоха, а частью – хороша. Мы, христиане, верим, что она испорчена. Но и доброе в ней, и злое окрашено одним оттенком. Фальстаф грешит иначе, чем Отелло. Если бы Утрата пала, падение ее было бы иным, чем у леди Макбет, а если бы леди Макбет не изменила добродетели, она была бы совсем иной, чем Утрата. Злое в Природе свойственно именно этой Природе. Весь ее склад таков, что испорчена она так, а не иначе. Мерзость паразитизма и красота материнства – злой и добрый плод одного и того же дерева.
Мы видим латинскость латыни лучше, чем латиняне. Английскость английского слышна лишь тому, кто знает еще хотя бы один язык. Точно так же и по той же причине Природу видят только те, кто верит в сверхъестественное. Отойдите от нее, обернитесь, взгляните – и вам откроется ее лицо. Надо глотнуть хотя бы каплю нездешней воды, чтобы узнать, какова на вкус горячая и соленая вода нашего, здешнего источника. Если Природа для вас – бог или «все на свете», вы не поймете, чем же она так хороша. Отойдите, оглянитесь, и вы увидите лавину медведей, младенцев и морковок, бурный поток атомов, яблок, блох, канареек, опухолей, ураганов и жаб. Как мы могли помыслить, что, помимо этого, ничего и нет? Природа – это природа. Не презирайте ее и не чтите; просто взгляните на нее. Если мы бессмертны, а она – нет (как и утверждает наука), нам будет не хватать этой робкой и наглой твари, этой феи, крикухи, великанши, глухонемой ведьмы. Однако богословы учат нас, что и она спасется. Суета и тщета – болезнь ее, а не суть. Она излечится, но останется собою, ее не приручат, не изуродуют. Мы узнаем нашу старую врагиню, мачеху, подругу – и обрадуемся ей.
X. О страшных красных штуках
Попытку отвергнуть теизм, показывая, что вера в Бога неотделима от дикарских заблуждений, я бы назвал методом антропологического запугивания.
Я пытался доказать, что изучение Природы не дает нам гарантии против чудес. Природа – не «все на свете», а лишь часть, быть может, очень малая. Если то, что вне ее пределов, задумает вмешаться в нее, защиты ей искать, по-видимому, негде. Но многие противники чудес все это прекрасно знают и возражают по иной причине: им кажется, что сверхъестественное вмешиваться и не помышляет. Тех, кто думает иначе, они обвиняют в детских предположениях и представлениях, и особенно противно им христианство, ибо в нем чудеса (во всяком случае – некоторые) теснее всего связаны с вероучением. Ни индуизм, ни даже магометанство не изменятся существенно, если мы вычтем из них чудеса. Из христианства их не вычтешь – христианство и есть история великого Чуда. Лишившись чудес, оно утратит свою неповторимость.
Однако неверующему становится не по себе задолго до того или иного чуда. Когда современный образованный человек видит какое-нибудь утверждение христианской догматики, ему кажется, что перед ним – непозволительно «дикое» или «примитивное» представление о мире. Оказывается, у Бога есть Сын, словно у какого-нибудь Юпитера или Одина. Сын этот сошел с небес, как будто у Бога дворец на небе и Он сбросил оттуда парашютиста. Потом этот Сын спустился в какую-то страну мертвых, лежащую, по-видимому, под плоской землей, а потом опять вознесся, как на воздушном шаре, и сел наконец в красивое кресло, немного справа от Отца. Что ни слово, все соответствует тому представлению о мире, к которому не вернется ни один честный человек, пока он в своем уме.