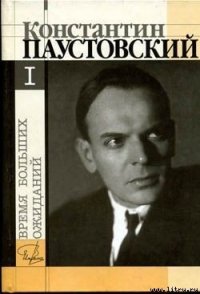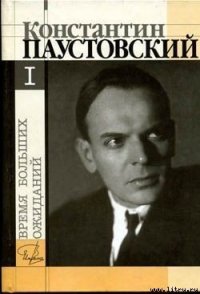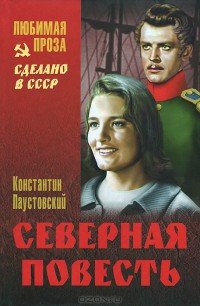Повесть о жизни. Книги IV–VI - Паустовский Константин (книги хорошего качества txt, fb2) 📗
«В конце концов он разгорится», – уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.
Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?
На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими глазами. Через руку у него было перекинуто новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.
– Я вас попрошу, – сказал Торелли торопливо, – повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.
Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли Рахиль – еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, – не надевала это пальто ни разу.
– А в чем дело? – спросил я Торелли.
– Дело в логике. – Торелли неестественно хихикнул и потер руки. – Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.
– Что же может случиться? – растерянно спросил я.
– Я знаю?! – Торелли пожал плечами. – Варфоломеевская ночь! Избиение младенцев! Похищение сабинянок! Последний день Помпеи! Что вам больше понравится. Привет, до завтра!
И он исчез, оставив меня в полном недоумении.
В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.
Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вкатывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.
Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.
Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.
Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.
Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.
Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил – поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.
Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV, звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.
Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано.
История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирняка, и пошел к нему за объяснениями.
Поведение Просвирняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахине: «Неонила, не лейте так много постного масла!» – или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение Советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени пошатнулось.
Если же Просвирняк был настороженно-любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это свидетельствовало о крепости Советской власти.
На этот раз Просвирняк был сдержанно-любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:
– Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему хотя и с ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев, надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.
– Я не был еще в городе, – ответил я. – Что это за «День мирного восстания»?
– Так вот, попрошу ознакомиться! – Просвирняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. – Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.
Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».
В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия, кроме самых необходимых, указанных в списке.
Я просмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор» и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».
«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду как за измену родине и контрреволюцию».
– Хана! – неожиданно сказал Просвирняк, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.
– Так вот, Даниил Семенович, – сказал я, – будьте добры забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.
– Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, – ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. – Напрасно гневаетесь. Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампфа. По сердолюбию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.
– Хорошо, – согласился я. – До вечера так до вечера.
Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):
– Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и проискам антихриста!
Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:
– Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы – это пустое дело. Ну в крайнем случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.
Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвирняк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.
Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.