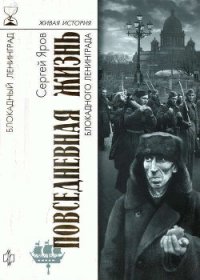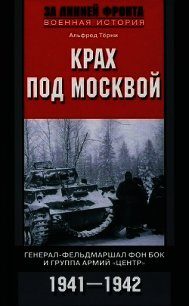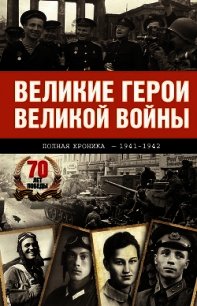Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 —1942 гг. - Яров Сергей (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
То, что она встретила в первой же квартире, ошеломило ее: «…Все восемь человек — члены рабочей семьи – умирают от дистрофии. Карточки потеряли». Скорее всего, они не молчали – излишне говорить, какие бездны горя они могли раскрыть перед той, от которой зависела их жизнь. Милосердие А. С. Берман – не милосердие напоказ, не отчет перед теми, кто давал ей столь лестные для нее оценки. Пришло время на деле показать, что она их достойна и рассказ А. С. Берман лишается присущего ей пафоса. Быстрота, с которой это происходит, – еще одно свидетельство ее искренности. Мелкие бытовые детали, приведенные ею, не затемняют и не запутывают описание и обнаруживают мотивы действий в их кристальной чистоте. «Форма содержательна, содержание формально» – говорил Гегель. Патетичная форма, посредством которой нам представлен образ исключительно честного человека, соответствует патетике его поступка. «Пошла в столовую и выпросила по своим талонам за вторую декаду три тарелки супа и принесла в стеклянной банке. Но хлеба у меня не было, потому что вперед не дают, а сегодняшнюю норму я… съела» – если нужно говорить о самых ярких свидетельствах человеческого сострадания, то вот одно из них, скромное, выраженное без рисовки и с трогательными оправданиями [1677]. Может быть, позднее ей не удавалось быть столь щедрой, но вот оно, первое движение откликнувшейся на бедствия несчастных людей – без расчетов, без оговорок.
Положение обязывает. Г. А. Князев (и чаще всего именно он) писал о моральном долге интеллигенции. Кому, как не ей, хранительнице нравственных заповедей, необходимо достойно перенести это суровое испытание – он и сам старается соблюдать при встречах с людьми «предупредительность, мягкость, чтобы легче было» [1678]. Можно сколь угодно часто ссылаться на факты духовного распада интеллигентов – некоторые считали, что именно среди них и обнаруживался отчетливее всего упадок воли. Но отметим, что в сотнях блокадных документов, оставленных ими, ощущение своей особости прослеживается весьма явно. Кто-то поднял упавшего человека, кто-то поделился хлебом, кто-то утешил, помог перенести вещи – нет при этом тщеславного самолюбования, но есть твердая уверенность, что иначе интеллигент поступить не имеет права. Да и не мог он не чувствовать взгляда чужих людей, обычно выделяющих его среди других, ожидающих от него поддержки, передающих с недоумением и удивлением слухи о его моральных прегрешениях. Д. Шостакович, много раз отказывавшийся уезжать из Ленинграда, дежуривший на крышах, и лишь позднее неохотно подчинившийся «правительственному решению» [1679], стал одним из символов блокадного города отчасти и потому, что каждый его шаг пристальнее всего сравнивали с нравственными эталонами.
Подчеркивание своего статуса обуславливалось еще и тем, что ссылаясь на него, оказавшиеся на дне блокады люди могли увереннее просить о помощи или воспринимать ее как должное. О. Р. Пето поведала такую историю. На улице она встретила мальчика, еле бредущего, с «неподвижным», безучастным лицом. «На вопрос – как звать – мальчик что-то невнятно бормочет. „Голоден, – внезапно и со злобой. – Чего спрашиваешь – не накормишь"» [1680]. Узнав, что она обещает дать еду, пошел за ней. Явно не верит ей, но другого выхода нет – идет молча, ни о чем не спрашивает. Путь был неблизким, и он начинал понимать, что дело не ограничится лишь выражением сочувствия – не поведут же ради этого так далеко.
«Внезапно останавливается, придерживая меня за рукав. „Подожди, тетя, я тебе все расскажу. Вовой меня звать“» [1681].
Он не оборванец, не вор, он не виноват, что стал таким – грязным, опустившимся, выпрашивающим хлебные крошки. Он из приличной семьи. Он даже показал ей семейную фотографию, которую хранил завернутой в несколько бумажек. Может, и носил ее с собой потому, что чувствовал на каждом шагу пренебрежение к себе и никак не хотел с этим свыкнуться. У него отец на фронте, мать умерла от голода, сестра в больнице. «Карточки» украли, обокрали комнату, на новый месяц «карточек» не дали.
«Рассказывая, Володя грязным рукавом вытирал слезы. „Только поверь, тетя, – ни разу ничего не украл“», – никак не мог остановиться, и долго пришлось его успокаивать [1682].
И такое случалось не раз. В. Инбер встретила в больнице, забитой «живыми трупами», рабочего. «Он еле шевелит языком и повторяет одну фразу: „Семнадцать лет… семнадцать лет на производстве"» [1683]. Политорганизатор Е. Шарыпина, разыскивая ослабевших рабочих, в одной из квартир встретила изможденную женщину, потерявшую «карточки». Подробно объясняла ей, как их «восстановить» и утратившая последние надежды женщина оживилась: «Я работала в „Швейнике“… Гимнастерки шила… Норму перевыполняла» [1684]. Трудилась для нужд фронта и изо всех сил, и кому, как не ей, надо помочь – нет, не зря пришла к ней политорганизатор, не зря заботятся о ней, она это заслужила.
Расскажем и еще об одном случае. Члены комсомольского бытового отряда Октябрьского района обнаружили 18 марта 1942 г. в одной из комнат неподвижно лежащего человека. «Мы сказали, что пришли ему помочь. Он не поверил. Безмолвно и недоверчиво следил за нами». Подозрительность беспомощного блокадника объяснима: чувствуя, что не может постоять за себя, он, вероятно, любое вторжение в свое жилище оценивал как угрозу. Бойцы отряда убрали комнату, вымыли его и забинтовали ноги, согрели чай – и его словно прорвало: «Человек заговорил… Он радист, работал, боролся до последнего, пока совершенно не обессилел» [1685].
Нельзя было в одночасье снять грязный ватник, найти лучшую одежду, встать, прибрать квартиру, вымыться – но люди здесь же уверяли, что они не такие, они лучше. И уверяли, кто как мог, – ссылками на свое образцовое поведение, на то, что они из хорошей семьи, что они самоотверженно работали до последней минуты. Все здесь было, и понимание того, что нравственные добродетели должны оцениваться по достоинству, и представление о том, какими обязаны быть эти добродетели, – ожидание помощи как награды вело тем самым и к осознанию ценности моральных правил.
Дневники и письма
1
Едва ли мы сможем точно определить, какую роль играли дневники и письма в упрочении стойкости ленинградцев в годы войны. Многое зависело от нравственной интуиции, понимания того, как мелкие трещины приводят к катастрофическим разломам от устойчивости приобретенных прежде навыков самоконтроля и длительности их формирования. Люди вели дневники – в силу привычки, усвоения чужих традиций, настойчивых советов, наконец, как средство заглушить тоску и чувство голода. Эти записи были попытками рассказать другим о своем самопожертвовании, о том, что пришлось пережить в блокадном аду — и этим, в частности, заслужить признание не только родных и близких. Дневники иногда использовали как хозяйственную записную книжку, где инвентаризовали и различные пайки и неожиданные подарки, где производились расчеты, позволявшие узнать, хватит ли продуктов на предстоящую декаду. То же следует сказать и о письмах – они, помимо прочего, содержали и просьбы о помощи, позволяли сохранять надежду на получение посылок, правда, зачастую беспочвенную.
Блокадники весьма скупо писали о причинах, побуждавших их вести дневник – вероятно, и в силу давности этой традиции, избавлявшей их от необходимости оставлять подробные объяснения. Драматичное блокадное время, конечно, заставляло их более подробно оттенять реалии эпохи: упражнения в самоанализе неизбежно уходили на второй план. Отбор сюжетов для дневника, как справедливо отмечал Э. А. Шубин, влияли и на содержание записей [1686]. О том, чтобы изначально создавать героические повести об отпоре врагу, заботились немногие. Будущее являлось неясным, а сам подвиг во всей полноте мог быть оценен только позднее. Некоторые дневники содержат предуведомление для читателя – там больше извинений, чем пафосных обещаний. Просили прощения за скучные и ненужные подробности, за хаотичность и фрагментарность впечатлений. Записи хотя и сумбурные, но честные – оправдывались и этим [1687].
1677
Там же. С. 111 (Запись 10 декабря 1941 г.).
1678
Цит. по: Адамович АГранин Д.Блокадная книга. С. 52.
1679
Солсбери Т.900 дней. С. 294.
1680
Пето О. Р.Дети Ленинграда: ОР. РНБ. Ф. 1273. Л. 10.
1681
Там же. Л. 10 об.
1682
Там же.
1683
Инбер В.Почти три года. С. 176.
1684
Шарыпина Е.За жизнь и победу. С. 144.
1685
Там же.
1686
Шубин Э. А.Блокадные дневники писателей // Литературный Ленинград в дни блокады. М., 1973. С. 269.
1687
Из дневников Г. А. Князева. С. 23 (Запись 10 сентября 1941 г.); Никулин А. П.Дневник. 14 января 1942 г.: ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 48. Л. 26.