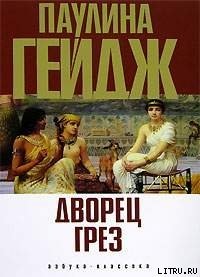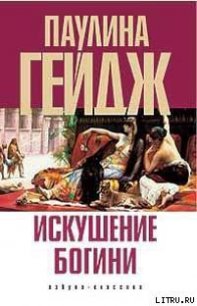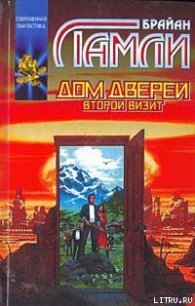Проклятие любви - Гейдж Паулина (список книг TXT) 📗
– Четыре сейчас на пути в Мемфис для того, чтобы запастись провизией, и они вскоре перейдут границу.
– А они подготовлены к сражениям? – Эйе ждал ответа, но Хоремхеб молчал, по-прежнему глядя на свои руки, которые он прижимал теперь к гладкому дереву столешницы. – Так подготовлены или нет? – настаивал Эйе; он уже стоял на ногах, наклонившись к Хоремхебу. – Ты знаешь не хуже меня, что большая часть наших войск бездействовала больше сорока лет. Им нужно три месяца на то, чтобы потренироваться в учебных сражениях, время, чтобы закалиться, оправиться от голода, узнать, чего можно ждать от хеттов и от пустыни! Если они будут разбиты, это ускорит нашествие на Египет. Хоремхеб вскинул голову и взглянул Эйе в лицо.
– Ты всегда больше говорил, чем делал, – ответил он, – и чем заканчивались твои долгие речи? Ничем! Кроме того, прошли годы с тех пор, как ты удалился от дел и перестал заниматься конницей, и ты полностью превратился в придворного. Ты не знаешь, о чем говоришь.
– Возможно, – резко парировал Эйе, – но твои офицеры должны были тебя предостеречь.
– Я не советовался с ними. – Хоремхеб поднялся и коротко улыбнулся Эйе. – Я верховный военачальник царя, и я говорю, что армия готова к войне. Не беспокойся. – Он обошел вокруг стола и приобнял Эйе за плечи. – Мы слишком много дорог прошли вместе, чтобы перестать доверять друг другу, носитель опахала. Я поделюсь с тобой сведениями, которые будут поступать ко мне с полей сражений, обещаю тебе.
– Не надо относиться ко мне так снисходительно, Хоремхеб, – отодвигаясь, сказал Эйе, все еще сердитый. – Я более расположен к тебе, чем ты думаешь, но умоляю тебя помнить, что я – тот, кто вынужден стоять за дверью опочивальни фараона, видя и слыша, как погибает человек, которого я когда-то поклялся чтить и защищать. Для тех из нас, кто находится постоянно у него в услужении, это очень болезненно. – Я помню об этом, – тихо ответил Хоремхеб. – Я тоже многим обязан фараону, но, конечно, Египту мы с тобой обязаны большим.
Когда его несли обратно во дворец, Эйе обдумывал слова Хоремхеба, и внезапно они заставили его остро ощутить свое одиночество. Он хотел бы пойти прямо к дому Тейе, чтобы обсудить с ней создавшееся положение, но это удовольствие уже никогда не вернется. Тоска по ней жила в нем постоянной тупой болью, которая усиливалась каждый вечер, когда ему приходилось руководить празднествами во дворце Эхнатона, потому что внучка Тейе Анхесенпаатон, будучи великой царской женой, теперь сидела рядом с фараоном на том самом месте, где некогда восседала императрица, оглядывая присутствующих своими бесстрастными голубыми глазами.
Хотя сам Эхнатон ничуть не интересовался своей самой младшей дочерью Анхесенпаатон-Ташерит, Эйе чувствовал жалость к юной царице и часто посылал своего управляющего в детскую справиться о здоровье малышки. Оно было очень скверным. Девочка плохо ела и слишком много спала. Однажды, набравшись сил навестить ее самолично, он встретил там Анхесенпаатон; она сидела на полу с дочерью на коленях. Она кивнула, и он подошел и поклонился. С трудом улыбнувшись, Анхесенпаатон взяла ребенка и протянула девочку ему так доверчиво, будто это была сломанная кукла.
– С ней что-то не так, дедушка, – сказала она. – Посмотри, какая вялая у нее правая ножка, какие слабые у нее ручки. Няньки говорят, что она не плачет, а только хнычет.
Эйе осторожно взял ребенка, глядя на мертвенно-бледное личико, которое было так поразительно похоже на отцовское, почти ожидая, что Анхесенпаатон спросит, как в детстве, может ли он починить ее.
– Царица, – печально сказал он, – думаю, ты должна быть готова к тому, что потеряешь дочь. Врачеватели не знают, что именно с ней не так, как не знаю этого и я. Ты должна любить ее, пока можешь.
Анхесенпаатон с серьезным видом взяла у него девочку и принялась ее покачивать.
– Когда я была маленькой, отец говорил нам, что мы не можем болеть, и умирать нам будет легко, – сказала она. – Моя дочка умирает, и он тоже умирает, да? – Ее глаза наполнились слезами, и она прижала ребенка к груди. – Придворные по-всякому обзывают его, а простолюдины говорят, что он преступник, но он – мой отец, и я люблю его. Они не должны так говорить о фараоне. Теперь он болен, и они все покинули его, но ты же не сделаешь так, носитель опахала?
Эйе присел перед ней на корточки.
– Нет, моя дорогая. – Он обнял ее. – Ты скучаешь по матушке?
– Да, и он тоже скучает. Когда мы были вместе в постели, он иногда называл меня Нефертити.
Исполненный жалости, Эйе поцеловал ее нежную щечку.
– Когда придет время, хотела бы ты жить с ней в северном дворце?
Она опустила голову.
– Думаю, да. Если ты будешь часто навещать меня.
Они еще немного поговорили, и Эйе вернулся в покои фараона. Было бы мудро возвысить маленькую царицу, – думал он. – Сменхара станет фараоном, но если он не будет искусным правителем, взоры многих, не исключая и меня, обратятся к Тутанхатону. Я пользуюсь доверием маленького царевича, и Анхесенпаатон тоже верит мне. Хоремхеб поступил бы правильно, добиваясь доверия Тутанхатона, если хочет сохранить свою власть.
Время сева и всходов пьянило в тот год, как никогда. Придворных, которые прежде зажимали носы, завидев корову, щеголей, за которыми носили ковры на случай, если им придется ступить в грязь, можно было теперь видеть стоящими на коленях среди молодых зеленеющих колосьев на западном берегу, благоговеющими перед восхитительным изобилием, которое, оказывается, может быть таким драгоценным. Зрелище цветущих куртин в садах вызывало возгласы восхищения. Каждое дуновение влажного, благоухающего воздуха казалось чудом.
Когда зеленые поля стали постепенно приобретать золотистый цвет, а приятное тепло зимы начало уступать место летней безветренной жаре, начался сбор первого за три года урожая. Но человек, которого прежде приводили в такое восхищение смены времен года и все плоды земли, теперь, ничего не замечая, лежал на ложе, погруженный в свои последние фантазии Эхнатон умирал. Немногие верные слуги, оставшиеся с ним, среди которых были и Эйе с Хоремхебом, наблюдали за процессом окончательного разрушения его разума и тем, как быстро слабело его тело. У Эхнатона еще случались приступы возбуждения, которые заканчивались изнуряющими судорогами, но с течением времени они становились все реже. Казалось, он вступал в мир, внутренняя реальность которого оставалась тайной для окружающих. Атмосфера в тихой комнате была наполнена ожиданием, заставляя ухаживавших за фараоном людей невольно понижать голос. Иногда фараон вдруг принимался ходить по комнате взад-вперед, потом внезапно останавливался и произносил совершенно разумные вещи. Однажды он остановился перед Хоремхебом и, глядя прямо ему в глаза, сказал:
– Но я провел свою жизнь, делая все, что велел мне бог. Я не стыжусь. Я не могу сказать, что было бы лучше, если бы я не родился.
– Разумеется, великий, – ответил Хоремхеб, прежде чем осознал, что Эхнатон обращался не к нему и на самом-то деле вообще его не видел.
Но вскоре Эхнатон слишком ослабел, чтобы ходить. Он лежал в постели, сложив руки на покрывале, почти не шевелясь. Он отказывался от еды, хотя иногда пил воду, продолжая свой нескончаемый внутренний диалог, который, как было ясно, он вел на протяжении уже многих дней. Эйе невольно вспомнились давние времена, когда царевич собирал вокруг себя молодежь двора и говорил гак авторитетно, как никогда больше не говорил после этого. Но он явно слабел, его дыхание становилось все менее глубоким, тело все больше худело, и лицо приобретало ту особую прозрачность, что служит предвестницей надвигающейся смерти.
К концу долгого дня, когда Эхнатон тихо лежал в постели и то засыпал, то пробуждался лишь для того, чтобы невнятно что-то прошептать себе под нос, он вдруг забеспокоился, принялся плакать и звать мать. Эйе и Хоремхеб переглянулись.
– Мы позовем Мериатон или пошлем за Нефертити? – прошептал Хоремхеб. – Нефертити уже отказывалась прийти, но мы можем попытаться снова.