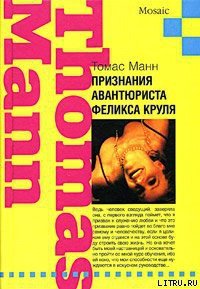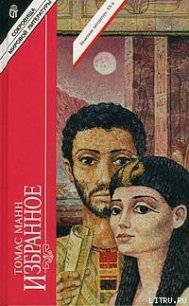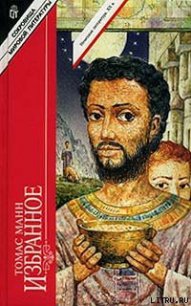ДОКТОР ФАУСТУС - Манн Томас (читаемые книги читать онлайн бесплатно полные txt) 📗
Как я видел, да как он и сам признавался, этот человек жил тогда в порыве некоего не столько счастливого, сколько издергивающего и порабощающего вдохновения, когда первоначальная наметка проблемы, композиторской задачи в прежнем их понимании, отождествлялась с экстатическим их решением, когда он едва успевал — пером ли, карандашом ли — угнаться за мчащимися идеями, не дававшими ему покоя и делавшими его своим рабом. Будучи все еще очень слаб, он работал по десяти часов в день и сверх того, позволяя себе лишь краткий перерыв, чтобы пообедать, а иногда и пройтись вокруг Святого пруда или к Сионскому холму. Эти поспешные прогулки походили скорее на попытку к бегству, чем на отдых, и были, судя по его то стремительным, то снова замедленным шагам, только другой формой одержимости. В субботние вечера, проведенные в его обществе, я не раз отлично видел, как трудно ему совладать с собой, как трудно продлить передышку, которой он сознательно искал, разговаривая со мной на обыденные, безразличные темы. Я вижу, как он вдруг выпрямляется, нарушив свою небрежную позу, как застывает и настораживается его взгляд, приоткрывается рот, а на щеках выступает пугающий меня лихорадочный румянец. Что это было? Было ли это одно из тех мелодических озарений, что, я сказал бы, одолевали его в ту пору, давая выход силам, о коих я ничего не знаю, да и знать не хочу, то есть созревание в его уме одной из потрясающих музыкальных тем, которыми изобилует этот апокалипсический опус и которые всегда тотчас же подвергались в нем охлаждающей обработке, так сказать, взнуздыванию, упорядочению, превращению в строительный материал оратории? Я вижу, как он, бормоча: «Говори, говори дальше!» — подходит к письменному столу, порывисто нацарапывает оркестровую партию, так что скомканная бумага и в самом деле рвется от нажима, и с гримасой — не берусь определить ее выражение, но, по-моему, она портила умную и гордую красоту его лица, — глядит туда, где, может быть, набросан страшный хор бегущего от четырех всадников, спотыкающегося, мечущегося, растоптанного копытами человечества, записан ужасный, доверенный глумливо блеющему фаготу крик птицы-вещуньи или вставлена антифоноподобная песнь чередующихся полухорий, с первого же раза перевернувшая мне душу, — строгая фуга на слова Иеремии:
Зачем сетует человек живущий?
Всякий сетуй на грехи свои!
Испытаем и исследуем пути свои
И обратимся к господу!
…
Мы отпали
И упорствовали;
Ты не пощадил.
Ты покрыл себя гневом
И преследовал нас, умерщвлял, не щадил.
….
Сором И мерзостью ты сделал нас
Среди народов.
Я называю эту пьесу фугой, и она действительно звучит как фуга, хотя здесь нет точного повторения темы, ибо таковая развивается с развитием целого, так что стиль, которому, казалось бы, подчинен композитор, разрушается и как бы доводится до абсурда, что отчасти восходит к архаической форме фуги в некоторых добаховских канцонах и ричеркаре, где тема фуги выдержана не всегда четко.
Вот куда бывал устремлен его взгляд. Он хватал нотное перо, тут же отбрасывал его в сторону, бормотал: «Ладно, до завтра», — и все еще с пылающим лицом возвращался ко мне. Но я знал или опасался, что он не сдержит своего обещания «до завтра», а, едва я уйду, сядет за работу и доведет до конца то, что так незвано нахлынуло на него посреди разговора, чтобы затем, с помощью двух таблеток люминала, возместить непродолжительность своего сна его глубиной и на рассвете начать все сызнова. Он цитировал:
Воспрянь, псалтырь и гусли!
Я встану рано.
Ибо жил в страхе, что состояние озарения — благословенное ли, мучительное ли — преждевременно покинет его. И действительно, как раз незадолго до окончания оратории, ее ужасного финала, потребовавшего от композитора большой творческой отваги и подтверждающего, вразрез с романтической музыкой избавления, богословски негативный и беспощадный характер целого, — как раз перед фиксацией этих сверхмногоголосых, раскатывающихся в широчайшем регистре звуков меди, производящих впечатление отверстого зева неминучей пропасти, наступил трехнедельный рецидив болезни — состояние, в котором он, по его собственным словам, забыл даже, что это за штука музыка и как ее сочиняют. Приступ прошел; в начале августа 1919 года он уже снова работал, и еще до конца этого месяца, в тот год очень знойного, все было завершено. Говоря, что оратория создана за четыре с половиной месяца, я имел в виду период до начала вынужденного перерыва. Если же прибавить сюда перерыв и заключительную работу, получится, что для чернового наброска «Апокалипсиса» ему потребовалось шесть месяцев: тоже достаточно удивительный срок.
XXXIV
(Продолжение)
И это все, что я могу сказать о встреченном тысячекратной хулой и ненавистью, но зато и стократно прославленном и любимом творении моего покойного друга в его биографии? О нет. У меня еще много невысказанного на сердце, но сейчас я хочу остановиться на тех качествах и особенностях, каковыми этот опус — разумеется, при всем моем восхищении им — меня угнетал и пугал, вернее, устрашающе интересовал, — остановиться в связи с абстрактными требованиями, предъявленными мне как участнику бегло уже затронутых дискуссий в квартире господина Сикста Кридвиса. Ибо встряски этих вечеров и неизменное участие в одиноком труде Адриана и были причиной того душевного переутомления, в котором я тогда жил и которое действительно обошлось мне в добрых четырнадцать фунтов веса.
Кридвис, график, иллюстратор книг, коллекционировавший восточноазиатские цветные гравюры и керамику и читавший, по приглашению всевозможных культурных корпораций, содержательные и умные лекции на эту тему в различных городах Германии и даже за границей, был невысокий человек неопределенного возраста с сильно выраженным рейнско-гессенским выговором; наделенный необычайной умственной возбудимостью, он, вне связи с какими-либо определенными убеждениями, из чистого любопытства, прислушивался к веяниям времени, объявляя всё, с чем так или иначе сталкиваются в данной области, «страшно вашным». Пожелав превратить свою квартиру на швабингской Марциусштрассе, гостиную которой украшали великолепные, написанные тушью и красками китайские картины (времен династии Сун!), в место встречи всех ведущих или во всяком случае компетентных и причастных к духовной жизни умов, какими только располагал в своих стенах славный город Мюнхен, он устраивал там вечерние мужские собеседования, интимные совещания не более чем восьми или десяти человек, начинавшиеся после ужина, около девяти часов, а потому не вводившие хозяина в особые расходы и предполагавшие лишь непринужденное общение, обмен мыслями. Последний, впрочем, не всегда сохранял высокоинтеллектуальную напряженность, соскальзывая подчас в сферу легкой и обыденной болтовни, уже по одной той причине, что вследствие великой общительности Кридвиса духовный уровень собеседников был все же несколько не одинаков. Так, например, в дебатах участвовали два члена великогерцогской семьи Гессен-Нассау, учившиеся в Мюнхене, приветливые молодые люди, которых хозяин дома не без энтузиазма называл «прекрашные принсы» и к присутствию которых, хотя бы лишь потому, что они были гораздо моложе всех нас, приходилось как-то приспосабливать разговор. Не скажу, что они мешали. Часто высокоумственные беседы велись как бы через их голову, а им доставалась роль скромно улыбающихся или не на шутку удивленных слушателей. Меня лично больше раздражало присутствие знакомого уже читателю мастера парадокса доктора Хаима Брейзахера, которого я, как уже было сказано, терпеть не мог, а между тем его остроумие и проницательность были, казалось, незаменимы при таких оказиях. То, что к числу приглашенных принадлежал и фабрикант Буллингер, имевший право громогласно разглагольствовать о важнейших вопросах культуры разве что в силу своего высокого налогового ценза, злило меня не меньше.